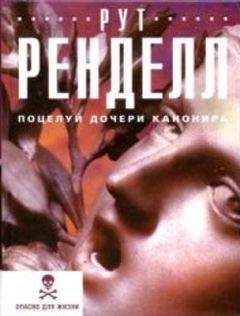Ромен Гари - Цвета дня
— Бедный Вилли, — сказал Гарантье.
— Фу, — произнес Ла Марн с презрением. — В нем нет чувствительности.
Гарантье ничего не сказал. Ему нравилось жить среди заблуждений. Это порождало в нем ощущение безопасности, уюта.
— Во всяком случае, не распространяйтесь на этот счет, — попросил он. — Не давайте ему ложных надежд. Он сердечник.
— Положитесь на меня, У меня нет причин доставлять ему удовольствие. Впрочем, счастливый Вилли — это было бы уже совсем не смешно.
Гарантье бросил еще несколько крошек птицам. На его спокойном и бледном лице — сероватая монотонность, но ведь надо же было скрывать невозможную молодость сердца, подавлять непобедимую веру в любовь, — сами морщины, казалось, были расположены в нужных местах, с продуманной изысканностью какого-нибудь Клее[30]. Можно было бы сказать, что он стремится достичь полного абстрагирования, возможно, надеясь полностью раствориться так, чтобы от него осталась лишь одна сардоническая улыбка, висящая в воздухе, как улыбка Чеширского кота. В каждом жесте, в каждом замечании читалось желание отстраниться. Его чувствительность удовлетворялась теперь лишь с удаленностью от предметов. Жизнь тогда представала как некая изысканная вежливость вещей, куртуазность, распространившаяся на все, — и грубость отступила на всех фронтах, — короче говоря, во всем присутствовала цивилизация. В то время как пять миллионов человек умирают сейчас в Азии от голода, подумал он.
— Борцы за обреченные идеи, — прошептал он. — Западный мир, терпимость, свобода… et caetera...
Он бросил несколько крошек птицам.
— Марксизм совершил ошибку, наделив персонажей Лабиша чувством трагедии. Он вывел их из водевиля. Марксизм превратил простых буржуа-рогоносцев в сознательных героев, взбунтовавшихся против судьбы. Таким образом он плюнул достоинством в душу западного мира, который, казалось, должен был закончить пошленькой постельной пьеской. Ему, похоже, удастся увести француза от сладости жизни, американца от его матери, англичан от них самих, немцев от других, а любовников — от их единственной любви. Я очень опасаюсь, как бы, отравив все их источники наслаждений, он не навязал им своего собственного пути спасения.
Ла Марн какое-то время с иронией разглядывал его, — ему всегда было занятно видеть неожиданные и бессмысленные формы, в которые могли облачаться у некоторых либералов страх и ненависть к коммунизму, — затем, ни слова не говоря, вышел. Мир был снедаем изнутри идеями, и очень скоро не останется больше любви, к которой человек мог бы припасть повинной головой.
ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ. ЧЕРНЫЙ: СКВОЗЬ ЗЕРКАЛО
Вилли лежал в ночи с широко раскрытыми глазами. Бебдерн ушел. Всякий раз, когда ему приходилось возвращаться к своей реальной жизни, к своему повседневному облику, к своей смиренно земной оболочке Ла Марна, он оставлял Вилли: не хотел раздражать его глаз. Он знал, что у Вилли аллергия на реальный мир, что как только его совали туда носом, у него начинался приступ астмы, и что он был очень несчастлив, когда ему приходилось признавать, что мир не только реален, но еще и в самом деле существует. Жизнь сделала из Вилли скептика, неверующего: он не верил в реальное. Он всегда наблюдал за ним с иронической и презрительной улыбочкой человека, которого не проведешь. Он уже давно понял, что реальность — это опиум народов. Он это понял с первого взгляда: с тех пор, как Вилли исполнилось восемь лет, он и реальность смотрели друг на друга неприветливо, и Вилли сразу сообразил, в чем тут дело. Его мать была проституткой в Новом Орлеане, но он осознал это лишь в возрасте восьми лет. Это был дом, каких вокруг, в Батон Руже, было немало, и если у Вилли ушло много времени на то, чтобы догадаться про мать, то лишь потому, что среди его товарищей по играм не было ни одного, который бы не был сыном шлюхи, — ему не хватало материала для сравнения. И лишь с возрастом, когда круг его друзей расширился и он подружился с мальчиком, чья мать занималась чем-то иным, он осознал реальность. Но может, это неправда, подумал он, лежа с открытыми глазами в темноте, может, я сейчас выдумываю все это. Но с этого момента — с возраста восьми лет — он порвал с реальностью, он начал строить лучший мир, он начал его выдумывать. В эту же пору он начал мечтать о полете и даже провел свои первые испытания крыльев. Он взбирался на верхушку дерева над протоками, поднимался во весь рост и ждал. Но ничего не происходило; ему исполнилось уже десять, а мама по-прежнему была шлюхой, и нужно было спешить, ведь с каждым новым годом он все больше сознавал это. Но ничего не происходило, и нельзя было ждать вечно на верхушке дерева, простерев руки навстречу ветру, который так и не прилетал. Но может, ничего этого никогда и не было, а я сейчас просто выдумываю, — всем известно, что я мифоман, — я сейчас выдумываю, я уже не знаю, кто я есть и кем я был, может, мама и не занималась вовсе тем, что я тут только что про нее наговорил, не знаю, и вот это-то и прекрасно. Но нельзя оставаться вечно на верхушке дерева в ожидании полета, приходилось всякий раз слезать и пытаться выкрутиться как-то иначе. К тому же реальность предпринимала гигантские усилия, чтобы переубедить его и обратить в свою веру, так что Вилли в конце концов даже отведал тюрьмы — но оставался скептиком. Он отказывался верить. Просто начал посещать места, где дела реальности шли не так успешно, где ей с трудом удавалось навязать себя, — цирки, кинотеатры, бурлески, — все, что не было правдой. Он подвизался в массовке, чтобы носить костюмы, работал в ночных кабаках, где к двум, трем часам ночи уже не соображаешь, на каком ты свете, был метельщиком арены в цирке и стал наконец помощником клоуна Спиритуса, у которого была — чудесная, на взгляд Вилли, — причуда: он почти никогда не снимал с себя грима и, по слухам, занимался любовью как был — с красным носом и в рыжем парике, — вероятно, из стеснительности, он стыдился своего вида. Когда он умер, его так и похоронили, согласно его воле; люди считали, что так он создает себе рекламу. Вилли к тому времени уже исполнилось восемнадцать, и реальность становилась все назойливее, все наглее: потребовалось задействовать решительные средства. Вилли нравился женщинам; на его лице проступала — в более утонченном варианте и на белом фоне слоновой кости — своеобразная негритянская красота, — как у голов воинов, вырезанных в эбеновом дереве, — но как бы латинизированная, тронутая испанским духом: ремесло его матери позволяло делать любого рода предположения. Волосы были черные и курчавые, — к таким всегда просится берберская серьга в ухо, но он никогда не доходил до такого. Он отправился в Голливуд. Остальное — общеизвестно. Начиная с этого дня он повел себя как Спиритус, но только в современном костюме. Он стал Вилли Боше, и больше уже никто никогда его не видел. Он беспрерывно играл с реальностью в прятки, не отступая ни перед чем в своих попытках выйти из подлинного и правдоподобного и исказить все, — занятый сугубо тем, как бы ему построить вокруг себя лучший мир, втайне надеясь на то, что, быть может, повстречает там однажды Кота в сапогах. Теперь уже настал черед реальности защищаться. Она использовала свой старейший трюк — самый избитый, самый банальный, но и самый верный. Она послала ему Энн. В общем, реальность тоже не колебалась в выборе средств. Вилли закрыл глаза, попытался думать о Россе, о рыскающих журналистах — один или парочка их постоянно дежурили в холле гостиницы, когда он возвращался, а на улице его не покидало ощущение, что за ним следят. Но все оказалось напрасно. У него по-прежнему стояла перед глазами дорога на Горбио — тонкая белая полоска между соснами и небом — и целующаяся пара. Ниже, по ту сторону, были долины, море и горы Италии. Пара шла медленно и через каждые несколько шагов останавливалась, чтобы поцеловаться; Вилли попытался улыбнуться и, лежа в темноте, стал считать их поцелуи, как считают баранов, чтобы уснуть. Затем он зажег свет, вылез из кровати: нужно было найти Сопрано. Он один мог разрушить иллюзию, в которой укрылись любовники, и войти в волшебный круг со всем весом реальности. Именно так, подумал Вилли, суетясь в комнате, именно так: я преподам им урок реальности. Он лихорадочно оделся, не имея никакого точного представления о том, что будет делать. Он поищет Сопрано, вот и все. Но где? Как? Внезапно ему в голову пришла простая и превосходная мысль. Как? Да просто обратившись к кому-нибудь еще. Вилли питал чуть ли не безграничное доверие к представителям дна общества, веря во всемогущество того чудесного, что там укрывается. Он питал большую нежность к тому типу, который сам же называл «негодяями», и, как всегда, то, что он так обозначал, имело мало общего с действительностью. Тут снова речь шла о мифе, о ностальгии, и то, что он подводил под ярлык «негодяя», включало в себя всех вперемешку — от Арлекина до Человека со шрамом, от Белча до Сопрано, от торговцев наркотиками до Мефистофеля, от наемных убийц до Джека Потрошителя; но, в сущности, это был все тот же славный старый Кот в сапогах. Ужасный зуд, пронзительная тоска по сверхчеловеческому. Он не осознавал этого. Уж слишком долго боролся он с реальным и слишком преуспел в этой борьбе, чтобы быть еще в состоянии отличать фальшивое от истинного. С девятилетнего возраста он всегда старался не знать об истинном положении вещей, и ему это удавалось. Так что когда он пытался, как сейчас, противостоять реальности, прибегнув к таким низко реалистичным средствам, как убийство, когда он в общем-то считал, что сражается с противником его же собственным оружием, то, наоборот, попадал в самый что ни на есть миф, в самое что ни на есть чудесное, и то, что он называл «прибегнуть к крайним средствам», было очередной попыткой перейти в мир сказки и взять себе в услужение Кота в сапогах. Он так мало догадывался об этом, что даже сейчас у него было ощущение, будто он предается холодному расчету: просто он собирается помериться с противником силами на его же собственном поле — коим является подлость; разумеется, тут есть своя доля риска, только в сказках все заканчивается хорошо — от этой последней мысли у него и в самом деле появилось сильное ощущение весомости, серьезности. Он надел смокинг, спустился в холл и попросил в администрации обналичить ему чек. Управляющий взглянул на цифру и, похоже, смутился.