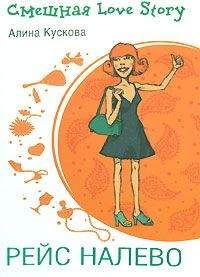Зиновий Зиник - Руссофобка и фунгофил
У двери квартиры валялось письмо и, проходя в кухню, Клио вскрыла конверт и пробежала несколько последних строчек: "...когда придешь в себя. Пусть смерть этого недалекого, но ищущего правды мальчика из рабочего класса послужит предостережением для тех, кто превращает наши леса и долы в плацдармы для ядерных ракет. Кстати, по-моему предложению, со следующей недели мы открываем семинар по собиранию грибов. Как показала наша последняя демонстрация протеста, идея собирания грибов на территории военных баз — прекрасный маневр, который мы, пацифисты, можем принять на вооружение с целью обескураживания милитаристских кругов Великобритании. Почему бы нам не называть себя "грибниками"? Несколько примитивный каламбур про "атомный гриб", но тем не менее: пусть полиция попробует обвинить нас в незаконных демонстрациях, когда сотни защитников мира появятся перед колючей проволокой ракетных баз с грибными корзинами! Мы не против ракет — мы за свободное собирание грибов! Таков должен быть наш лозунг. В связи с этим, нельзя ли как-нибудь привлечь Константина? Прочесть небольшую лекцию о разных видах грибов — чтобы нам как-то ориентироваться на местности и быть во всеоружии во время допросов в случае ареста. Он, я полагаю, был бы заинтересован в подобной просветительской деятельности. Я понимаю, что у вас в данный момент напряженные личные отношения, но, надеюсь, ты сумеешь поставить общественные интересы выше семейных дрязг. Дружески обнимаю, до скорой встречи, твой Антони".
Клио сложила письмо вчетверо и разорвала его на мелкие кусочки.
После ареста Константина дом был пустым, как женская утроба после аборта. Войдя в кухню, она стала собирать в одну кучу все варенья с соленьями, все копчености и маринады в банках и связках, все плоды кулинарного гения Константина. Все это она вынесла на задний двор и вывалила посреди лужайки. Надрываясь от тяжести, она выкатила и бочки с мочеными яблоками, солеными огурцами и маринованными помидорами. Потом нарубила веток с полумертвой ненавистной березы в углу участка, обложила ими кулинарную кучу, облила все это керосином и подожгла. От чесночных колбас и копченых рыб повалил черный вонючий дым; потом стали лопаться банки с маринадами — гулким тяжелым уханьем и брызгами желтого пламени, когда вспыхивал разлившийся уксус; как ребра в давке трещали в огне бочки. Ей казалось, что в столбе черного облака движется, корчась, человеческая фигура, где клубы зловонного дыма выпячивались человеческими органами, вывернутыми наружу в конвульсиях, отделяющимися друг от друга — кожа от кости, кость от тела, тело от души, и черная душа изрыгала вспышки пламени под всхлипывания, повизгивания, вопли; это был костер ее личной инквизиции, и в корчащихся клубах дыма Клио узнала Константина, изливающегося, как будто дьявольской серой, потоками маринада; она подвергала очищающему огню этого проклятого пришельца, который вопил и плевался уксусным ядом. И со зловещим шипением исчезал в облаках дыма.
С чувством выполненного долга она вернулась в кухню. Выбрала салатную миску побольше и стала нарезать туда собранные мухоморы, счищая лишь комья земли у корневищ. Потом залила нашинкованные поганки уксусом и подсолнечным маслом, не забыла посолить и поперчить эти кровавые ошметки и, усевшись поудобнее, стала сосредоточенно пожирать ядовитую смесь, стараясь тщательно пережевывать каждый кусочек, как учили в детстве, лелея губами, языком и небом нестерпимо горький и щелочный привкус мухоморов. Ощущение внутреннего ожога постепенно распространялось от горла до груди и разливалось по всему телу, которое, казалось, начинало неметь, как раздувшийся нарыв. Или так ей мерещилось, когда, опустошив до дна миску с мухоморами, она аккуратно вытерла салфеткой губы и стала нетерпеливо, как на школьном уроке химии, ждать результатов действия грибного яда. В кухонном окне, как сквозь стекло колбы, все еще плыли клубы черного дыма от догорающих останков российского эксперимента. Чтобы как-то убить время (слово "убить" прозвучало в мозгу нелепым каламбуром) , она стала машинально листать злополучное издание Жан-Жака Руссо, точнее, академическое предисловие к книге, в которое она никогда до этого не удосуживалась заглянуть; глаза бежали по строкам, как будто увиденным из окна поезда, или же просто все плыло перед глазами от впитывающегося в кровь мухоморного яда:
"Подводя итог руссоистской идеологии, можно сказать, что, отказавшись от церковной доктрины католицизма, Жан-Жак Руссо отторг себя от тела Бога, воссоединение с которым даруется через ритуал причастия, и лишил себя права на ритуальную исповедь, дарующую искупление грехов через участие в мистерии страданий Спасителя. Исповедь религиозная, в центре которой — Бог, стала "Исповедью" литературной, в центре которой — сам Руссо. Яд вины, не искупленной в общинно-церковном ритуале причастия и исповеди, начинает накапливаться в его сознании, как в запечатанном сосуде греха. Отсюда — самоподозрительность и страх перед разоблачением, откуда один шаг до мании преследования. Это — мания преследования особого рода: другие, мол, могут догадаться, насколько я греховен, и использовать мои грехи в своих корыстных целях. Опережая собственных врагов, мнимых и действительных, Руссо неизбежно приступает к саморазоблачению, к исповеди перед человечеством. Это саморазоблачение принимает форму или буквального эксгибиционизма, как в сексуальных отклонениях его юношеских лет, или же якобы бескомпромиссных признаний своих подлых поступков в годы зрелости. Поставив, однако, себя в центр мироздания, Руссо в этих признаниях отнюдь не озабочен судьбой жертв собственной подлости: ему в первую очередь важно доказать человечеству, что своим страданием он искупил свой неблаговидный поступок — как, скажем, в истории со служанкой, которая была изгнана из дома по навету Руссо за совершенную им же самим кражу. "Я, может быть, и не лучше других, но я, по крайней мере, от других отличен", — пишет он в первых строках своей "Исповеди". Признание в собственных грехах, таким образом, становится самоцелью и подстегнуто верой в собственную уникальность".
Она пыталась вникнуть в смысл написанного, но не могла сосредоточиться: не из-за запутанности слов, плывущих перед глазами, а из-за того, что эти умозаключения она как будто давным-давно уже пережила на собственной шкуре, но только не может правильно сопоставить свое собственное внутреннее знание с чужими словами, твердящими то же самое. По-русски даже Rousseau выходит обрусевшим: Руссо. Неужели она — руссофобка? Она захлопнула книгу, потом открыла ее снова наугад:
"Однажды мы прогуливались по местности, покрытой густыми зарослями крушины. Я заметил, что ягоды на этих кустах созрели; ради любопытства попробовал одну-две из них, и, найдя ягоды довольно приятными, слегка кисловатыми на вкус, принялся срывать их и есть, чтобы утолить жажду. Достойный господин Бовье стоял рядом, не притрагиваясь к ягодам, не проронив ни единого слова. Один из сопровождающих приблизился к нам и, увидев, что я лакомлюсь этими ягодами, воскликнул: "Что вы делаете, месье?! Неужели вы не знаете, что это ядовитые ягоды!" — "Ядовитые?" — воскликнул я в полном удивлении. — "Конечно же, ядовитые! — услышал я в ответ, — это всем известно. Никому в голову не придет к ним притрагиваться!" — Я повернулся к господину Бовье и спросил его: "Почему вы меня об этом не предупредили?" — "О месье, — ответил тот, кланяясь уважительно, — я посчитал невежливым вмешиваться!"
Клио пыталась вспомнить, как выглядят ягоды крушины, но вспомнила лишь изречение Кости о том, что крушина хороша в качестве слабительного. Мнимые или действительные корчи в желудке напомнили ей о мухоморах, которые, казалось бы, вырастали у нее под сердцем и лезли через горло наружу. Ее тошнило. Скорчившись от боли, она ринулась в ванную и, упав на колени перед унитазом, стала блевать. Она выблевывала все, что накопилось у нее внутри за все эти годы: Костина сперма и славянофильство, вегетарианские идеи и радиоактивные отходы чая, пацифизм и снисходительность Марги, мухоморы и советская власть, Восток и Запад, "третий мир" и английское убожество. Она поднялась с колен, и вслепую нащупав ручку унитаза, спустила воду. Качаясь, она прошла к телефону и набрала номер скорой помощи.
10. СУД
Суд тянулся уже которую неделю, и Константину явно грозил серьезный тюремный срок за убийство. Присяжным оставалось решить - являлось ли это убийство преднамеренным или непреднамеренным.
Когда я натолкнулся на одно из первых газетных сообщений о судебном процессе, я, как помню, лишь злорадно усмехнулся: еще одна английская дура напоролась на российского фармазона, который наломал дров за границей. Но постепенно это полууголовное дело в суде Олд Бейли, с набившей оскомину "русской" изюминкой, стало перерастать из анекдота в лондонский скандал. Дело в том, что в ходе суда адвокат Константина во время перекрестного допроса свидетелей, в обращениях к судье и присяжным, с упорством англичанина выстраивал такой образ своего подопечного, история и обстоятельства жизни которого должны были в глазах присяжных снимать с него практически всякую ответственность за совершенное преступление. Все у адвоката шло в ход, и прежде всего советское происхождение обвиняемого. Тут у него была полная свобода, поскольку и судья, и присяжные, да и сам адвокат обладали крайне смутным представлением о советской жизни, которое сводилось у них к некому оперному, я бы сказал, сценарию, где советская армия, маршируя по Красной площади, преграждает путь иностранным корреспондентам, которые хотят прорваться к Сахарову, читающего Солженицына в самиздате, пока КГБ следит из космического спутника, как Барышников танцует на балетной сцене Нью-Йорка. Сирота, воспитанный в детдоме, где кормят тухлой человечиной, обвиняемый, согласно адвокатской легенде, жил в постоянном страхе перед лагерем и тюрьмой, мордобоем, пулей советских палачей; отсюда — постоянная настороженность, подозрительность к окружающим, готовность обороняться от врага внутреннего и внешнего. Эта жертва режима находит в себе смелость преодолеть угрозы властей и бюрократические препоны, и выбраться за железный занавес. Но что ожидало его за железным занавесом? И тут адвокат начинал бить по самому чувствительному для англичан месту, ощущаемому как национальный позор — традиционной британской ксенофобии. Без знания языка, без подходящей профессии — кто из нас не знает ужасов безработицы? — этот свободолюбивый чужестранец, политический беженец, мечтающий о свободе и демократии, столкнулся лицом к лицу с враждебным и холодным миром, не желающим протянуть ему руку помощи, глядящим на него, как на заграничный курьез, развивая в нем тем самым и без того преувеличенный инстинкт самосохранения, заставляющий его реагировать на мнимую угрозу с удвоенной агрессивностью. Куда обратиться такому человеку за поддержкой? И тут адвокат бросал грозный и укоризненный взгляд на Клио, Маргу и Антони, сидящих в зале суда; не жена ли, риторически вопрошал адвокат, должна сыграть эту жизненно важную роль в судьбе иммигранта в холодном и враждебном мире? Поддержать дружеским советом, домашним уютом, женской, в конце концов, лаской? Что же нашла у домашнего очага эта жертва советского режима и человеческого жестокосердия? И тут адвокат не упускал случая подчеркнуть, что представляла собой Клио и ее друзья. Сборище лесбиянок, гомосексуалистов, безответственных пацифистов и троцкистов! Умело проводя допрос свидетелей, среди которых в первую очередь шли Клио, Марга и Антони, он настойчиво проводил ту мысль, что политические взгляды участников этой печальной истории — непосредственный результат их морального разложения, их сексуальных склонностей, которые он неизменно называл извращенными, и эти склонности, в свою очередь, увязывались в речах адвоката с их политическими взглядами, которые он неизменно называл "троцкистскими", "экстремистскими" и вообще левацкими, давая понять, что обладатели этих взглядов если и не работали на советскую разведку впрямую, явно ей служили, сами того не подозревая.