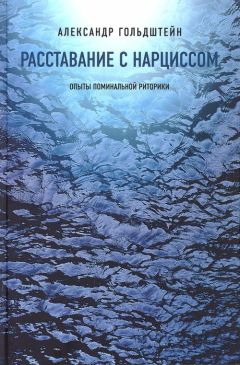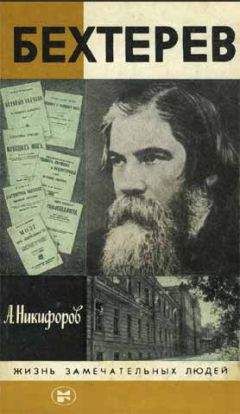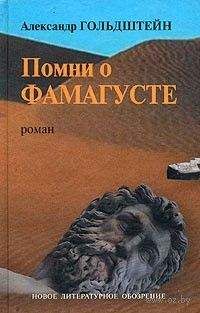Александр Гольдштейн - Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики
Но в русской стихии и корень Антоновой неприрученной гениальности. Он земноводен. Не будь его влажного качества (говоря в стилистике Якоба Беме), не было бы и сухого, он не смог бы стать сухим вратарем. Он примиряет в футболе теллурократию с талассократией. Его иррациональная природа человека-артиста, творящего на миру и под солнцем произведение искусства будущего, — привлекательней коллективистских утопий, она парирует их, как голкипер — пенальти. Глубоко индивидуалистическая интуиция художника приближает Кандидова к сонму великих. Колоссальная солнечная активность указывает на его неразвившийся потенциал солярного мессии. Его дорефлексивное разинское бесстрашие есть выражение «атлетических свойств нации, народа»(слова Кассиля из посвященного Старостиным очерка «Мяч идет от брата к брату»). Из этого-то стихийного телесного бесстрашия проистекает и революционная энергия русского демоса, увиденного в книге со стороны, глазами не удавшегося телом еврея. Попросту говоря, Кандидов меньше Страж, чем Художник и жаждущий славы Революционер, и поражение написано ему на роду.
Но и Карасик, этот Панглос при Кандидове, — никудышный Философ, тяготящийся своей ролью. Из философии он сбегает в футбол, который едва не приводит его к водевильной смерти «в коробочке». Псевдоним журналиста Карасика (Евгений Кар) вроде бы должен продемонстрировать, что его обладателю внятна «природа вещей», однако он столь же далек от нее, что и простодушный Антон, не сознающий, в каком Государстве ему приходится прыгать за мячом. Евгений — безудержный идеалист, но не в духе Платона, а в порхающем и восторженном стиле Карасика, мелкой литературной рыбешки, с неоправданным оптимизмом отвечающей на обращенный к ней вопрос о житье-бытье. Еврей и рационалист, противник русской стихии, он, подобно Антону, в сущности, русский «водник», уютно чувствующий себя близ Волги, своей настоящей родины. Немудрено, что он тоже матч проиграл.
В финале романа два чуть не умерших неудачника, экс-чемпион и бывший «философ», обнаруживают себя выздоравливающими на соседних больничных койках. Чересчур своевольные, они признаны негодными к порядкам Платона (эпилог, в котором автор загнал их обратно в отвергнутые обоими амплуа, привинчен к роману, как все эпилоги на свете). Но это их не смущает, им остается то большее, ради чего и написана книга, — их воскрешенная дружба. Они опять будут вместе, как в детстве, и в юности, и в пору обоюдных успехов, они вновь будут осязать друг друга, как в то время, когда Карасик обмирал от здорового, жарко и сильно дышащего тела Антона, лежа с ним рядом на одной койке, а Кандидов на официальном приеме не глядя протягивал руку и под столом крепко, до боли сжимал худое колено Карасика. Они вновь будут вместе — два разлученных любящих человека.
Гомоэротика, не спартанского, а более мягкого толка, небезразлична для якобы подросткового сочинения, в котором звучат и многое в нем психологически значат уитменовские гомосексуальные строки о дружбе. Впрочем, и Спарта здесь к месту, Спарта из вагнеровского трактата, знавшая высокое начало любви мужчины к мужчине, которое в том заключалось, что не было в нем момента эгоистического чувственного наслажденчества. Но и о чисто духовной дружбе в данном случае говорить не приходится, ведь духовная дружба сама была завершением наслаждения от чувственного союза друзей, основа которого — созерцание красоты любимого. Это потом завелась порча нравов, и вместо медных монет, выражавших презрение к деньгам, в сундуках у спартанцев скопилось немало дорогой валюты азиатской чеканки, скромные братские трапезы в общих столовых сменились индивидуальными пиршествами в четырех стенах дома, а «прекрасная любовь мужчины к мужчине выродилась, так же как и у остальных эллинов, в отвратительное чувственное влечение…»[89].
Друзьям из романа Кассиля сей декаданс не грозит, их дружба чувственна и чиста, и нет у них ни персональных жилищ, ни дорогой азиатской монеты. Два эксцентричных неудачника, два клоуна на пиру победителей, они собираются жить после смерти и поверх эпилога, сохранив в результате всех поражений только любовь друг к другу. Этого у них уже никто не отнимет.
СПОСОБЫ УКЛОНЕНИЯ
Идеальное государство Тынянова
Поль Валери завершил свое «Предисловие» к «Персидским письмам» Монтескье следующим рассуждением: «Почти во всех произведениях этого красочного и несколько инфернального стиля, какие созданы были в восемнадцатом веке, чрезвычайно часто и словно бы в силу закона жанра появляются представители двух, в сущности, весьма различных пород человеческих: иезуиты и евнухи. Иезуитов объяснить нетрудно. Большинство почтенных авторов было обязано им превосходным воспитанием; и за все их ферулы, за духовную и риторическую муштру они воздавали своим наставникам издевками и карикатурами. Но кто объяснит мне всех этих евнухов? Я не сомневаюсь, что существует некая тайная и глубокая причина почти обязательного присутствия этих персонажей, столь мучительно отрешенных от массы вещей и, в известном смысле, от самих себя»[90].
Зная ответ, Валери предпочел его утаить: в этом было его насмешливое переглядывание с обманчивой ясностью «Писем». Реконструируется же ответ с помощью ключа, спрятанного в начальных строках «Предисловия». Согласно Валери, всякое общество восходит от дикости к порядку, каковой переход заключается в том, что эра факта, характеризующая варварство, уступает место эре упорядоченности, основанной на царстве фикций, ибо нет такой силы, которая могла бы утвердить развитое устроение общества исключительно на принуждении. Система цивилизации, вступившей в эру порядка, предполагает господство абстрактных категорий, которые, материализуясь и отвердевая, выступают в роли обелисков сообщности — единственных надежных гарантов коммуникации. В умах людей кристаллизуются фигуры священного, праведного, законного, достойного, похвального и их антиподов. Идолы Храма, Трона, Суда, Театра застят собой горизонт. Круговая порука общественных ритуалов становится жизненно необходимой, и хотя разоблачение мнимости этих установлений — неизбежный мотив просветительских текстов, сомневаться в безусловности социальных обрядов, эти обряды «не понимать» могут лишь условные персияне и пришельцы с далекой планеты.
Значение и притягательность евнуха в том, что он своим искалеченным телом возвращает память о дикости «факта» и принуждения — среди благополучия фикций, фиктивного благополучия. Евнух вновь произносит вслух правду о телесной материи: там, где, казалось бы, властвуют только знаки, эмблемы и символы. Телом евнуха закон и порядок обращены в архаическую фактологию варварства, в довременное состояние хаоса. Несущий на себе хирургическую роспись эпохи, внезапно отбрасывающей его в далекое прошлое, евнух являет собой вызов рациональному обществу, утвердившему эру порядка и фикций, а заодно и дискредитирует идею предустановленной гармонии и веру в прогресс. Он указывает на отсутствие в мире целесообразности, на хаотическую подкорку разумных событий. Ужасный и влекущий, как все, что связано со сползанием на пройденные ступени социальной эволюции, с разрушением и деградацией, евнух неожиданно берет на себя роль камерного заменителя лиссабонского землетрясения, которое потрясло Вольтера и способствовало изменению его философии, или океана, пожравшего «Титаник». Подобно этим бессмысленным событиям, искалеченный и вследствие того непостижимый евнух знаменует торжество иррациональности внутри самодовольного мира цивилизации — мира упорядоченных, спасительных фикций.
Кроме того, через свое тело евнух приближается к власти, к дворцовой диалектике управления и переворотов. Кастратам, если вспомнить Византию, жилось много лучше, нежели царским слепцам, которым не позволяли засиживаться на белом свете: полагалось само собой разумеющимся, что из нескольких честолюбивых императорских сыновей зрячим лучше всего оставлять одного — прочие, насильственно погруженные во мрак, уже не смогут растащить государство на мятежные области и вскоре исчезнут, растворятся в отведенных им кромешных клетушках. Измененная телесность кастратов не препятствовала их восхождению к власти, каковое возвышение, обретая очевидный компенсаторный стимул в гладком месте не терпящей пустот плоти, было освящено древней традицией государственного администрирования, благосклонно взиравшей на мудрых скопцов возле тронного кормила. Но в первую очередь евнух властвует в гареме, этом просветительском синониме деспотизма: «Слыша, какое молчание господствует в Серали, можно подумать, что дар слова сделался вовсе не нужным; что знаков немого достаточно для сообщения всякого самоважнейшего повеления правительства. И действительно, никакие искусства не требуются для поддержания чиноначалия там, где силе противополагается один страх, где власть неограниченного повелителя вручается каждому подначальному чиновнику: никакое звание не может внушить свободы душевной на то зрелище молчания и уныния, где всякое сердце обуревается ревностью и боязнию, где, кроме плотоугодия, не остается другого предмета для вознаграждения за страдания как самому верховному повелителю, так и его подданным»[91].