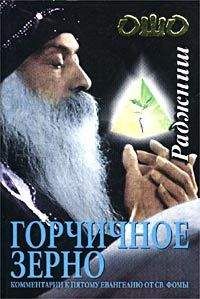Майгулль Аксельссон - Я, которой не было
— И что?
— Я рассказывал это моим конфирмантам.
— А-а.
— Ее простили за то, что она возлюбила много. Но кому мало прощается, тот мало любит.
— Как-то все навыворот.
— В смысле?
— Должно быть наоборот. Кто мало любит, тому и мало прощается. Отсутствие прощения следует из отсутствия любви. Ты сам-то уверен, что понимаешь этот библейский стих?
Святоша скрестил руки.
— Есть много толкований. Это — лютеранское. А твое понимание скорее католическое.
— Что делать!
Я уселась за руль, включила зажигание, заворчал мотор.
— Ну, пока, может, еще увидимся, — сказал Святоша.
— Возможно.
Я захлопнула дверь.
С тех пор он и едет в сотне метров от меня, увеличивая скорость, когда я увеличиваю скорость, и сбрасывает ее одновременно со мной. Глупость. Наверняка глупость. Если только он не вспомнил о паре-тройке газетных заголовков. Уж кто-кто, а я знаю о воздействии заголовков на читателей. Не всегда благоприятном.
Я мелькала в этих заголовках трижды. Когда меня поймали. Когда взяли под стражу. И когда вынесли приговор. У меня в этих заголовках было три имени. Жена-мстительница. Шеф-редактор. Мари Сундин. Фотографии шли в той же последовательности, с каждым разом делаясь все откровеннее. Вначале снимок на паспорт с черным прямоугольником вместо глаз, потом фото к постановлению о взятии под стражу, где у меня платок надвинут на глаза, и наконец — мой улыбающийся фотопортрет из редакционного кабинета. После оглашения приговора фотографии сошли на нет. Я перестала быть новостью и сподобилась лишь пары столбцов. Катрин улыбалась. Видишь! Все уже забыто. Через шесть лет никто ничего не вспомнит.
Шесть лет. Даже сами слова эти непостижимы. Первую ночь в Хинсеберге я попыталась отсчитать это время — сидя по-турецки на узкой койке, проматывала назад шесть лет, ища ту, кем я была, чтобы понять, кем стану. Но находила лишь какие-то клочки и обрывки, разрозненные кусочки пазла, не стыкующиеся с другими. Я вспомнила, что шесть лет назад у меня были белые босоножки на каблуках и как их тонкие ремешки врезались в ноги. Едва придя домой с работы, я сбрасывала их в холле и чесала эти красные полоски. Кафельный пол приятно холодил пятки. Сверкера не было дома. Сверкера не было дома практически никогда.
Год спустя у меня случился девятый выкидыш. Это была кровавая история, так что я с месяц ходила с двойными прокладками. Голова кружилась отчаянно, по утрам приходилось держаться за стенку, чтобы добрести до ванной. Я была очень бледная, но это мне шло. На самом деле, говорил Сверкер, я просто красавица. В сентябре мы сняли дом в Тоскане. И по вечерам сидели под черным звездным небом и пили красное вино. Двигались мы неспешно, говорили редко, но смотрели друг на друга практически без злобы и подозрения. Мы были почти счастливы.
За год до этого ушел на пенсию Хамрин, мой прежний гинеколог, и теперь я пришла к новой врачихе. Еве Андерссон. Имя и фамилия ей шли — такие же безликие, как сама эта бесцветная женщина по ту сторону письменного стола, что листала мою историю болезни своими толстыми короткими пальцами и смотрела на меня, наморщив лоб.
— А что вы думаете об искусственном оплодотворении? — спросила я и сама удивилась. Я ведь уже сдалась, так зачем теперь кого-то из себя строить?
— Нет, — отвечала Ева Андерссон. — Не вижу большого смысла. Ведь механизм зачатия работает. Проблема не в этом.
— А в чем?
Она вздохнула.
— Точно не знаю, но могу предположить, что тут что-то иммунное.
— Как — иммунное?
Она торопливо улыбнулась, показав щель между передними зубами.
— Да ведь удивительно, что дети вообще получаются. Что тело женщины не отторгает их, как пересаженный орган. Особенно мальчиков. Обычно работает специальный механизм, защищающий плод от агрессии материнской иммунной системы, но если механизм дает какой-то сбой, то выкидыш следует за выкидышем.
Почувствовав, как меня прошибает пот, я провела рукой под носом.
— Так это моя вина? Это я отторгаю детей?
Она покачала головой.
— Нет, все не так просто. Возможно, все вышло бы с другим мужчиной. Совсем другим.
— В каком смысле?
Она оторвала взгляд от бумаг.
— Вы с мужем, наверное, слишком похожи. В иммунологическом отношении. Возможно, потому-то ничего и не получается. Вы ведь уже не девочка — понимаете?
В тот вечер мы со Сверкером молча пили пиво на кухне, и я наконец открыла рот, чтобы рассказать, и тут же его закрыла. Этого он узнать не должен. Никогда.
Год спустя я съездила в Индию. Одна. Собственно говоря, я должна была освещать масштабную конференцию по проблемам окружающей среды, но сходила я туда только раз. Остальное время лежала у себя в номере и смотрела в потолок. Трижды в день в дверь стучал дежурный по этажу и задавал два вопроса: You not well? You want food?[53] Когда я вернулась, врач на работе выписал мне антидепрессанты, но я прекратила их принимать, когда Сверкер сказал, что я стала толстая и равнодушная. Я не хотела быть толстой и равнодушной. Мне хотелось быть худенькой и красивой, страстной и талантливой, щедрой и уверенной в себе.
Как-то майским вечером еще через год я набрала номер адвокатской конторы, но, не дожидаясь ответа, положила трубку. Скоро Мидсоммар. Если я разведусь, придется сидеть по другую сторону озера, когда Бильярдный клуб «Будущее» станет распевать песни всю ночь напролет.
Когда та ночь наконец наступила, я выпила столько вина, что хохотала и не могла остановиться. Под конец со мною вместе хохотал уже весь Бильярдный клуб. И Сверкер тоже. Он продолжал улыбаться, когда мы пришли в нашу комнату.
— Я остаюсь с тобой только ради Бильярдного клуба «Будущее», — сказала я ему, пока мы оба раздевались. Он не ответил. Может, не расслышал. Но, когда мы погасили свет, он положил руку мне на бедро, упоенно застонав. Я прижалась к нему и тоже с упоением уткнулась носом в его грудь.
А потом вдруг оказалась на койке в Хинсеберге, сидела и пыталась понять, что значит шесть лет, кто я и кем я стану.
Ну и кем же я стала?
Не знаю. Пока что.
Я снова взглядываю в зеркало заднего вида. Святоша уже совсем близко, свет его фар слепит мне глаза. Впрочем, мы приближаемся к Мьёльбю, и, если повезет, он там свернет и поедет через Транос в Несшё. Получается короче, по крайней мере если нужно попасть в сам город. А я двину через Йончёпинг, до Хестерума так ближе.
Как же я хочу туда! В тишину и забвение.
Мэри щелкает крышкой ноутбука и, закусив губу, сосредоточенно таращится на клавиатуру. Торстен сидит молча, пока она старательно нажимает клавишу за клавишей. Мжешь уйти.
— Ты хочешь, чтоб я ушел?
Мэри кивает.
— Боишься, Сверкер услышит, что я тут?
Мэри, мотая головой, тщательно прицеливается и жмет на единственную клавишу. Я.
— Это ты хочешь, чтобы я ушел?
Она опять кивает.
— Почему?
Мэри разводит руками. Зачем Торстену сидеть и страдать у нее в кабинете? Это бессмысленно. Он сам, возможно, тоже так думает, поскольку уже положил руки на подлокотники кресла, словно собрался встать — но не встает. А глубже усаживается в кресло и, повернувшись к Мэри вполоборота, смотрит в окно с таким сосредоточенным выражением, точно ждет, что некое существо из потустороннего мира вот-вот материализуется среди дождя и деревьев в саду. Когда он заговаривает, голос совсем другой. Глухой.
— Ты разочаровалась во мне?
Мэри морщит лоб. Разочаровалась в Торстене? Нет.
— Я ведь не звонил.
Она пожимает плечами. Ну и что. Она ведь тоже не звонила. Но Торстен на нее не глядит, он продолжает:
— Все было бы иначе, если бы мы были с тобой.
Мэри качает головой. Неужели он забыл ту неудавшуюся ночь в «Стаде-отеле» Сигтуны?
И наутро — завтрак в молчании? Такая бы она и была, их совместная жизнь. Мэри снова склоняется над клавиатурой. Не мгу.
— Чего ты не можешь?
Еще одно усилие. Жить. После она таращится на экран, словно сама не понимая, что написала. Торстен прокашливается.
— Ты хочешь сказать, что не смогла бы жить со мной? Но почему?
Мэри вздыхает. Он не понял. Она и сама толком не понимает, знает только, что не в Торстене дело. Она сама его выдумала и никогда не позволяла ему быть тем, кто он есть на самом деле. Может, она бы и не вынесла его таким, каков он на самом деле. И снова она нагибается над клавиатурой.
Не мгу говорить, не мгу жить.
Теперь она знает, что это значит. Что она не может говорить, даже когда может. И поэтому не может жить. По-настоящему. Полноценно. Так, как следует жить человеку.
— Ты живешь, — отвечает Торстен.
Мэри торопливо улыбается и вновь наклоняется к клавиатуре.
Ты летаешь. И мучишься оттого, что не умеешь летать.