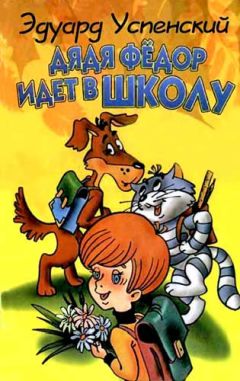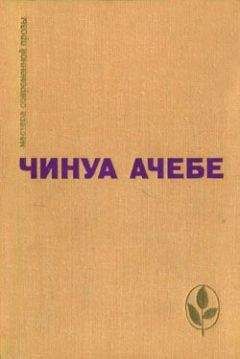Залман Шнеур - Дядя Зяма
Ури смотрит на Хаце по-новому и видит перед собой все понимающего, умного и сердечного молодого человека, который беден и измучен, сам почти нищий, калека, всю неделю сидит за столиком на рынке и шьет магерки для крестьян, а в субботу днем занят заботами чужих подмастерьев, людей совсем другой профессии. Подвергает свою жизнь опасности…
Дядя Ури слегка растерян. Его хозяйская самоуверенность колеблется. Новый субботний сюртук теряет всю свою солидность. Ури хотелось бы сейчас быть одетым попроще, победнее — как, например, Хаце-шапочник. Ему почти стыдно твердо стоять на двух одинаковых ногах… Эта сладковатая униженность, эта близость к нищему шапочнику так действуют на дядю Ури, что он вспоминает все старые обиды, все старые гойские притеснения, и ему хочется от всего сердца выговориться, пожаловаться такому понимающему человеку, как Хаце. Ури поворачивает к дому и при этом говорит, обращаясь к шапочнику:
— По-моему… Ты, поди, думаешь, то есть твоя шайка думает, что я за фонек горой, за их, так сказать, справедливость. М-м-м… Накось выкуси! Я, слава Богу, знаю, что сталось со Шкловом после изгнания из Москвы, после гонений Сергея[283], да сотрется имя его! Нету больше тех заработков, нету!.. Что? Я сам, что ли, не лежал, спрятавшись в подвале в Москве без прав[284], по мне, что ли, мыши не прыгали?
— Вот-вот, — радуется Хаце-шапочник, — вот и мы о том же. Нас всех оттуда вышвырнули. У нас один враг…
— Я только одного не понимаю, — углубляется в рассуждения дядя Ури. — Ладно, без самодержавия там и прочих подобных радостей вы, может, обойдетесь, но как обойтись без царя? Кто будет править? Все вместе? Что же тогда будет со всей Pacceeй!
Хаце-шапочник потихоньку агитирует Ури:
— А как же Америка, реб Ури? Америка же обходится без царя с крестом на короне. Там раз в несколько лет выбирают президента, так же как вы выбираете габая в любавичском бесмедреше, и ничего, он правит совсем неплохо. А если ему приходится трудно или вдруг потребовалось слишком много денег, он советуется с общиной — прямо как Исроэл-габай, не рядом будь помянут, в любавичском бесмедреше. И ничего страшного. Напротив, все живут в почете и богатстве. От кого в Шклов приходят деньги в заказных письмах? От американских родственников, от ремесленников, которые раньше здесь умирали от голода по семь раз на дню…
— Ш-ш-ш! — спохватывается Ури. — Не надо так громко! Так ты думаешь, что для евреев это будет хорошо?
— Почему только для евреев, реб Ури? Для всех… Нынче-то головы не поднимешь! Нынче…
— Ш-ш-ш! — перебивает его реб Ури и оглядывается. — Так ты думаешь, что это я за него заступаюсь? Что я буду ради него всю жизнь надрываться? Да пусть он хоть лоб себе расшибет!
— Хи-хи, реб Ури, хоть лоб расшибет! Вот и мы о том же!
От радости шапочник упирается увечным коленом в костыль, хватает своими костлявыми ладонями Урину правую руку и трясет ее. А когда отпускает, то Ури смотрит на собственную руку, как на откошерованную посуду. Он даже трогает себя — нет, это не сон!
* * *В ту субботу дядя Ури справил третью трапезу немножко позже обычного. Когда он пришел домой, уши у него горели, косые глаза радостно поблескивали. Тетя Фейга спросила:
— Ну?
— Ну-ну, — махнул рукой дядя Ури и сразу же взялся за наполненную водой кварту[285]. Но после гамойце тетя Фейга снова не смогла сдержаться:
— Ну?
Ури, с куском халы в руке и с полным ртом, взглядом показал ей на детей. То есть при них, при «маленьких», говорить о таком нельзя. Но тетя Фейга не могла прийти в себя от изумления: после такой «замечательной» деменстрации около их дома, после того как его опозорили, Ури возвращается домой в приподнятом настроении! Во время третьей трапезы, вопреки своему обыкновению, дядя Ури не цеплялся к сыновьям за то, что они забыли произнести благословение, задирают кошку или вытягивают бахрому из скатерти. Наоборот, он ущипнул их за щечки и велел, чтобы они вслед за ним подтягивали змирес.
— Поняли, сорванцы? — подбадривал сыновей дядя Ури:
Ле-вар нотлин ве-ла эйлин
Ганей калбин дехацифин…[286]
И вот что это значит, дети: на улице рыщут и не могут войти собаки, то есть злые духи… Ай-бам-бам!
И не успел Ури закончить благословение после трапезы, как тетя Фейга выставила детей в детскую и снова пристала к мужу:
— Ну?
— Ну-ну, — Ури разозлило ее бабье любопытство. — Борух га-гевер ашер йивтах ба-шем ве-гойо га-шем мивтахей…[287] Знаешь, что я тебе скажу, Фейга? Пусть он хоть лоб себе расшибет!
— Кто это «он»? — переспросила тетя Фейга.
— А сам адон гагодл…[288]
Тетя Фейга так и застыла в сумерках исхода субботы. Она догадалась. Лицо Ури было в тени, но голос звучал неожиданно свежо. Фейга перепугалась:
— Ури, что это за речи! И вообще, что вдруг случилось?
— Вдруг? — переспросил Ури почти игриво. — Вдруг, говоришь? Думаешь, я забыл московский подвал? Как я лежал там «без прав», а по мне мыши прыгали… И за это я должен за него жизнью жертвовать?.. Да пусть он себе хоть лоб расшибет!
Тетя Фейга почувствовала, как у нее подгибаются ноги. Она села и подперла щеку двумя пальцами:
— Может, ты теперь еще пожелаешь пойти вместе со всеми сапожниками на деменстрацию? Читай-ка лучше майрев!
Но Ури уже принял решение:
— На деменстрацию не пойду, молиться — сейчас помолюсь, а после — сразу к Зяме по поводу его подмастерьев… Но за адон гагодл я больше заступаться не буду, пусть хоть лоб себе расшибет! Ай, ве-гу рохум йехапер овен ве-лей яшхис…[289]
Тетя Фейга осталась сидеть в темноте — маленькая, отставшая от мужа, который отдалился от нее куда-то высоко, куда-то далеко. И в женском своем одиночестве она развела руками и стала тихо молиться:
— Гот фун Авромен, фун Ицхокн ун фун Янкевн…[290]
Вот так, в тот далекий субботний вечер, дяди Ури начал свой путь в революцию.
Глоссарий
Агода (Пасхальная) — см. Пейсах.
Арбоканфес («четырехугольник», др.-евр.) — ритуальный элемент мужского костюма. Четырехугольный кусок материи, к углам которого прикреплены цицис. Арбоканфес носят не снимая. Заповедь состоит именно в постоянном ношении цицис, а арбоканфес нужен, чтобы было к чему их прикрепить.
Бадхен — ведущий традиционной еврейской свадьбы. Во время обряда «покрывания (или усаживания) невесты» бадхен говорил невесте о прощании с девичьей жизнью, заставляя ее плакать; во время свадебного застолья представлял гостям жениха, невесту и их родню, объявлял о принесенных гостями подарках и, в качестве свадебного шута, забавлял публику остроумными рассказами, сценками, шутками и песнями. Свои речи бадхен обычно импровизировал в стихах на более или менее устойчивые рифмы.
Бар мицва («сын заповедей», арам.) — возраст религиозного совершеннолетия для мальчиков, наступает в тринадцать лет.
Белфер — помощник меламеда.
Бесмедреш («дом толкования», др.-евр.) — молитвенный дом, место для богослужения и ученых занятий, синагога, часто принадлежащая определенной религиозной, например хасидской, группе.
Бима — возвышение в центре молельного зала синагоги, с которого происходит публичная рецитация Торы.
Вайбер-шул («женская синагога», идиш) — пространство в синагоге, выделенное для женщин. Находится вне основного молельного зала, например, на хорах.
Габай — староста религиозной общины.
Гавдола — обряд отделения субботы от будней. Сопровождается зажиганием специальной свечи, свитой из четырех тонких свечек, и вдыханием аромата благовоний.
Гемора — см. Талмуд.
Глечик — узкогорлый керамический сосуд, которым пользовались, чтобы сохранить на субботу кипяток горячим.
Годес — коробочка для благовоний, используемая во время гавдолы.
Гой — нееврей, иноверец.
Гойка — нееврейка, иноверка.
Десятский — низший полицейский чин, выборное должностное лицо из крестьян или обывателей. Назывался так потому, что первоначально избирался от десяти дворов.
Дни трепета (Йомим нороим) — десять дней между Рош а-Шоне (Новолетием) и Йом Кипуром (Судным днем), время покаяния.
Дурное побуждение — традиционный для иудаизма концепт, объясняющий злое начало в человеческой душе.