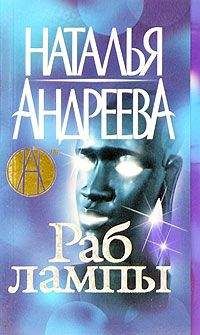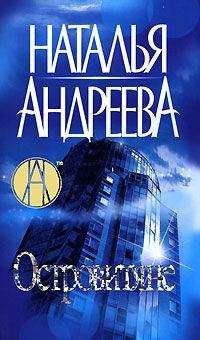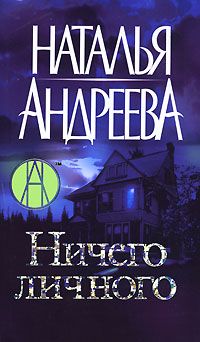Дарья Вернер - Межсезонье
Правда, говорил он мало, сидел, развалившись на стуле, поблескивая печаткой перстня, ободок которого тонул в черном мехе, покрывавшем его пальцы, оглаживал начавшую уже седеть круглую голову, цыкал зубом, вынимал пальцами застрявшие волокна мяса изо рта и не смотрел на меня. Кажется, за весь ужин мы ни разу не встретились глазами.
– Он учился на Кипре, представляешь, – юлила сестра, произносила каждое слово с незнакомым мне восхищением в голосе.
– А ты помолчи, – грубо и громко оборвал ее Иракли, – пока тебя не спросили, чего рот раскрываешь?
Сестра вжала голову в плечи, мельком глянув на меня, словно надеясь, что я ничего не заметила. Это было, конечно, глупо, но ей в тот момент хотелось, чтобы я ее обманула, не дала превратиться в ничтожество.
У нее и раньше были романы – всегда короткие, на встречу-две, которые ничем не заканчивались.
Она приходила после этих встреч и без начала, без вступления, словно вскакивая в уходящий поезд, торопливо рассказывала. Рассказы ее все время были душные, муторные – от них пахло грязными подворотнями, где быстро перепихиваются у стены, не по любви, не из-за страсти, а просто так, где к грязному потному паху пригибают голову, сидя на заднем сиденье машины на стоянке в лесу, где заставляют встать на колени прямо на гравий, чтобы изо всех сил всадить сзади. Темнота ползла из этих рассказов – липкая ночь, и неизменно тошнота подкатывала к горлу, будто это жалость, стыд и отвращение были такими, кислотошнотными. Рассказы высасывали из тебя душу, а сестра говорила монотонно, словно все это происходило не с ней.
На мое «я бы так не стала», «зачем?» она запиналась на секунду и тут же рассказывала дальше.
Послушай, давай ты не будешь рассказывать мне все эти подробности, попросила я однажды. Она обиделась и надулась – но рассказывать перестала. И темнота снова ушла куда-то, затаившись.
– У меня теперь молодой человек, – гордо говорила она маме и тете, когда те звонили из Москвы. С такой гордостью девочки в четырнадцать лет рассказывают о первом друге.
– Он из-под Батуми, с греческим гражданством. Работает поваром в греческом ресторане.
Однажды я пришла к ней вечером – сестра жарила себе яичницу, больше ничего делать так и не научилась.
– Хочешь? – спросила она. – Давай отпразднуем.
– Чего? – удивилась я.
– Да так, за нас просто выпьем, – и она достала из шкафа бутылку виски – каким-то отработанным, привычным движением, словно делала это теперь каждый день.
– Ты пьешь виски? – поразилась я. Я никогда не видела, чтобы она пила что-то крепче шампанского. Получается, мы с мамой как-то пропустили тот момент, когда она перешла на виски.
– Давай я тебе тоже налью стаканчик, – она вытащила огромные тонкостенные стаканы для виски. – Это от Иракли. Я люблю по вечерам пропустить стаканчик. Он знает. – И она наполнила себе стакан – почти до краев…
* * *…Нет ничего печальнее, чем закрывать дачу под осень, в день, когда воздух дрожит от предчувствия золота и невесомой грусти. И грусть эта прозрачна, она так тонка, будто вот сейчас и растает в кажущемся вдруг шипящим, пузырящемся от легкости воздухе. Она везде – пока ты уносишь в дом детские качели, а деревянные звенья с сухим стуком складываются, развенчивая летнее чудо, пока закрываешь очаг и занавешиваешь окна на втором этаже, а на рамах уже дремлют разморенные осенним солнцем мухи. Скоро их станет тут так много, что они будут толкаться, а потом совсем заснут на зиму, чтоб никогда уж не проснуться. Пока отключаешь воду и закрываешь на замок все хозяйственные сарайчики, стоявшие нараспашку все лето.
Нет ничего печальнее – то ли оттого, что еще одно лето прошло, обнажая значимость времени, а то ли в этот момент острее всего чувство, что за следующие десять месяцев мир, твой мир, до неузнаваемости изменится – к лучшему ли, к худшему, – но никогда уже не будет таким, как в этот момент, когда солнце растворяется в истончившихся вдруг листах.
Хрупкость мира и хрупкость времени ощущаешь ты, унося пледы и куртки в кладовку.
И от этого грустно.
После лета показалось, что сестра еще дальше отходит от нас.
И от Сони.
Она и раньше-то была словно не с нами, а теперь еще и приходилось с трудом выпрашивать разрешение водить Соню куда-то. Чем ближе к школе, тем чаще нужно было такое разрешение.
Соня мечтала пойти в балетную студию – ее пришлось выбивать с боем.
– Пускай дома сидит, денег нет, – отвечала сестра и уходила на балкончик, разговаривать по телефону с Иракли – чтобы никто не слышал, о чем они.
За катания на пони – уроки верховой езды – заплатила я, только тогда она согласилась. Мы ездили на окраину Вены, в Унтерлаа, шли мимо провинциальных кабачков с венком из еловых веток над входом, означающих, что уже подоспело молодое вино, под ногами шуршали рыжие листы, и пахло грибами. А мы с Соней держались за руки, «как же хорошо нам, правда?» – и шли туда, где вышагивают по кругу толстозадые пони с длинными челками.
Однажды хозяева лошадей устроили праздник перед Днем Всех Святых, и Соня валялась в сене – совсем как мы в детстве, на даче, – и мы вырезали из огромной желтой тыквы смешную морду, и у нас получился ухмыляющийся гном.
«Посмотри-ка», – многозначительно говорит сестра, и по лицу ее блуждает странная улыбка. В руках у нее коробка, дорогая, хрусткая, наполненная воздушной папиросной бумагой, которую надо разворачивать, шурша, кажется, что если разворачивать такую папиросную бумагу, то оттуда, из коробки, тут же вырвется тонкий запах дорогих духов и шика.
В коробке – платье. Длинное, до пят, с пышной, будто пена, нижней юбкой, кремовое, в оттенок шампанского. «Ну ты же понимаешь, зачем оно», – говорит сестра игриво и улыбается безумно.
– Иракли сказал, что мы, может, женимся!
– Может?
– Ну, ему надо в греческом посольстве еще взять справку о том, что он не женат, а там это так до-о-олго тянется.
Она надевает платье, крутится перед зеркалом, выгибая спину, царственно поворачивая голову, – и превращается в лебедь, самодовольную, застывшую в ожидании подарков судьбы лебедь.
Вечером, после свиданий, она приходит в мамину комнату, где мы все – мама, Соня, я, завалившись на большой диван, смотрим телевизор и пьем чай с самодельным печеньем, – и говорит. Говорит-говорит-говорит – словно ей нужно выговориться за все эти месяцы.
Словно хочет, чтобы ее похвалили, утвердили в правильности того, что она делает.
В один вечер она мечтает, как будет жить с Иракли и иногда навещать Соню у мамы. А потом вдруг говорила, что заберет ее с собой.
– Деньги-то там есть. Много денег. Мне Иракли говорил. Можно будет совсем не работать. Или можно будет пожениться и детей родить. Я посчитала – на новое пособие, если не шиковать, можно спокойно жить – и не работать. Спокойно.
Сестра приносила домой мобильные телефоны, кем-то уже использованные – «от Иракли», потом притащила подержанный принтер со следами затушенных сигарет на верхней крышке.
«Откуда у него все это?» – спрашивала мама.
Сестра мялась и говорила неопределенно – «ну, у него много такого на работе остается».
– Но он же работает поваром!
– Не знаю я, не приставайте ко мне.
Она перестала спать – «что-то не могу заснуть. Мне Иракли обещал таких белых таблеточек дать».
– Что за таблетки? – вскидывались мы. – Почему ты берешь у него какие-то таблетки?
Она застывала – как в детстве:
– Он мой будущий муж вообще-то. Я точно знаю. Он разбирается.
Иногда она сидела у себя в комнате и смотрела в одну точку – казалось, она могла сидеть так часами пугающей, замороженной статуей, пока кто-то не окликал ее. Тогда она суетилась и старалась сделать вид, что все в порядке.
Она стала забывать, что купила что-то, а когда купила десятую упаковку шампуня с ромашкой, я сказала ей: «Послушай, все нормально? Тебе нужна помощь?»
Она испуганно заморгала – нет-нет. Все в порядке.
Она стала запираться в ванной и проводила там по два часа.
Она перестала носить кофточки с коротким рукавом – даже в теплые дни выходила из ванной в рубашке с рукавами до косточки, выходила совсем одетая и больше не бегала по квартире в ночнушке в поисках подходящего платья. Словно задраивалась от окружающего мира.
А иногда она становилась суетливой, словно что-то внутри тянуло ее куда-то, не давало сидеть на месте.
Она теперь кричала на Соню. А раньше не кричала вообще, говорила тихим голосом.
Лицо ее осунулось и покрылось странными красными язвами, которые никак не проходили.
– Это у меня аллергия на крем.
– Сходи к врачу хотя бы, вдруг что-то серьезное.
– Да не хочу, само пройдет. Или Иракли что-то посоветует.
Проходили недели – о свадьбе никто не говорит. Сестра то и дело вынимала из коробки кремовое платье, надевала его, ходила по квартире, доходила до зеркала и долго-долго смотрела на себя.