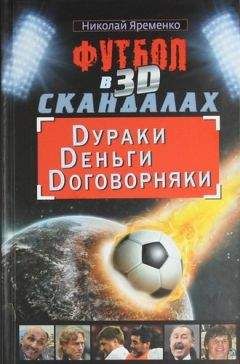Владимир Яременко-Толстой - Девочка с персиками
– Я никогда не видел куниц.
– Что не исключает их коварства…
– Получается вычурно.
– Главное, чтоб не банально.
"В Париже живут парижанки –
Они элегантны, как птицы,
А в Ницце живут ницшеанки –
Коварны они, как куницы…"
Зимний день стремительно угасал, словно жизнь поэта. На синем южном небе зажигались далекие звезды. Судьбы русских поэтов трагичны. Их жизни оборваны на полуслове, их песни не допеты, их женщины пошли по рукам. Имеет ли смысл становиться поэтом? Одних убивают враги или завистники, других расстреливают, третьи загибаются в нищете и болезнях. Лишь один Иосиф Бродский достиг славы и денег, но он не успел ими в полной степени насладиться.
Бедняга, женившись на молодой понтоватой бабе, он подверг себя всем сопутствующим подобному акту передрягам. А когда ему стало хуево, она цинично ушла в Нью-йоркскую ночь, не поверив в искренность его сердечного приступа, ведь он так часто имитировал их, эти приступы, чтобы вызвать ее сострадание и сочувствие.
Вернувшись лишь на следующий день домой, проведя греховную ночь у ебаря, а может быть невинную у подруги, она обнаружила его околевшим, словно пса. Это была самая бесславная гибель поэта за всю историю русской литературы.
Быть поэтом не сулит ничего хорошего. Это пустая, бессмысленная трата жизни, которая, как показывает практика, дается всего лишь один раз. Так лучше быть простым распиздяем, пишущим стихи. И машина с тремя распиздяями приближалась к их заветной цели – нажраться, подурачиться и подклеить каких-нибудь баб.
Если бы Бродский попробовал опрощаться, а не корчить из себя гения, он бы наверняка протянул бы подольше, хотя к Голой Поэзии он явно бы не примкнул никогда, для этого он был чересчур ограничен интеллектуально.
Я украдкой разглядывал лица своих попутчиков, на которых лежал отчетливый отпечаток самых низменных инстинктов. Люди-уроды… Мне всегда нравилось собирать вокруг себя подобные персонажи, поскольку они несравненно интереснее людей ординарных. Термином 80-ых годов их можно было бы определить "глюковыми" людьми, то есть людьми, способными издавать "глюки" – совершать абсурдные, неадекватные поступки. Сейчас этот термин почти не употребляют. А жаль!
Люди-уроды – гораздо более общее понятие, охватывающее весьма широкие категории народонаселения.
Ив одной рукой держался за руль, а другой подсознательно разминал яйца, готовясь к предстоящему вечеру. Тим, надув щеки, о чем-то напряженно размышлял, при этом следы тяжелой умственной работы отчетливо отражались на его простодушной физиономии врожденного идиота. Капельки пота выступили у него на лбу. Вероятно, он все еще считал карты, переваривая горечь своего проигрыша в казино Монте-Карла.
Лицо Ива мечтательно застыло, его рука крепко сжимала под брюками собственный хуй, словно рычаг переключения коробки скоростей. Я вспомнил теорию чеховского ружья, высказанную, если не ошибаюсь,
Станиславским – "Если в начале пьесы у Чехова на стене висит ружье, то рано или поздно оно должно выстрелить". Рано или поздно…
Ружье Ива было готово к пальбе. И неприхотливым чеховским пьесам с одиноким выстрелом в финале он явно предпочел бы полнометражный американский боевик с бесконечными ожесточенными перестрелками.
За окнами автомобиля окончательно смерклось.
Ночная красавица Ницца вынырнула из-за поворота, когда наш автомобиль обогнул высокий холм, на вершине которого, сложив на груди руки, стоял бронзовый Герцен. Сей русский житель Лондона с немецкой фамилией, как было тогда принято в приличном английском обществе, зимовал на Ривьере, опубликовав здесь в 1851 году свое самое известное произведение – "Развитие революционных сил в России" и упокоившись затем на кладбище Шато.
Антилопа прошуршала своими старыми копытами вдоль Английской набережной, найдя себе стойбище неподалеку от русского собора-пряника на авеню Николая II, в котором ныне хозяйничали раскольники-евлогиане, отправляя службы по-французски и подчиняясь
Константинопольскому Патриарху. В просторном церковном доме, расположенном на огороженной высоким забором территории собора по слухам, распускаемым русскими ницшеанцами, разыгрывались оргии французских педерастов – служителей русскому Богу, нашедших себе здесь приют.
Содом и Гоморра правили миром в уходящем тысячелетии, и царствию их не будет конца в будущем, даже если перейдет этот собор под юрисдикцию московскую и назначат сюда какого-нибудь ебископа из отдела так называемых "внешних сношений" МП – пидоргана и кагэбэшника. Например, молодого певчего Иллариошку – выпускника московской консерватории по классу флейты и баяна, подпевавшего в
Загорске в церковном хоре и замеченного митрополитом Кириллом, им же отпедерастенного и рукоприложенного, отправленного затем в Нью-Йорк представлять Русскую Церковь в ООН. Пути порока неисповедимы…
Английская набережная набухала толпами праздных прогульщиков, не знающих, как скоротать время до наступления уникального момента в их жизни – смены тысячелетий. Они сливались со всех сторон по улицам и переулкам, из парадных домов и отелей, чтобы потереться друг о друга телами, походить по променаде туды-сюды, позырить на стадо бутафорских оленей в лесу навезенных с окрестных Альп срубленных елок на просторной площади перед зданием оперного театра, полюбоваться на огромный стеклянный шар, символизирующий землю, обмотанный какими-то яркими обмотками. Мы бессмысленно волоклись за четырьмя молодыми америкосками, перебрасываясь с ними пустыми фразами, вернее, перебрасывались Тим с Ивом, а я плелся сзади, заставляя себя гаденько подхихикивать их сальным шуткам.
Затем мы сидели на песке пляжа, посасывая коньяк изгорла, строя планы на выебение каких-нибудь красивых баб – француженок или итальянок.
– Всегда лучше иметь дело с красивыми бабами, чем со страшными, – рассуждал Гадаски.
– Ты имеешь ввиду – приятней? Спору нет, – отвечал ему я.
– Нет, не в этом дело! У страшных больше комплексов и заебов, их сложней раскрутить на еблю. Их приходится дольше уговаривать, а красивые легче дают и от них проще затем отвязаться. Они знают себе цену, они легко найдут себе мужика. А попробуй-ка отделаться от выебанного страхоебища, которое будет потом за тобой бегать, звонить, пускать сопли, писать тебе стихи и письма, пытаться у тебя поселиться или поселить тебя к себе?
– Но зато к красивым привязываешься сам, пытаешься удержать, начинаешь страдать, разве не так? – возражал я.
Вокруг взрывались петарды, хлопали хлопушки, в небо взлетали ракеты. Мы пиротехнику не закупили. Почему-то не пришло в голову, а то можно бы было что-то поджечь или взорвать.
– Уже без двадцати двенадцать, – заметил Ив. – Надо идти к шару!
Чем ближе мы подходили к шару, тем плотнее становилась толпа. А шар вдруг зажегся яркими огнями материков и начал вращаться.
Разносимый усилителями мужской голос молол какую-то французскую белиберду. В какой-то момент я вдруг стал его понимать, это был счет по убывающей, сорвавшийся вдруг в истерический крик – "бон анне",
"буэно ано", "хэппи нью иар" и так на разных языках. Вокруг захлопали пробки бутылок с шампанским, все загремело, закричало, небо взорвалось оглушительным фейерверком. Все пили и обнимались, мы тоже обнялись.
Неожиданно рядом с нами вынырнули наши знакомые америкоски с бутылками шампанского в руках. "Вэар йор глассис?" – спросила меня одна из них, предлагая куда-нибудь налить. В ответ я сложил руки в пригоршню и протянул ей, при этом подобострастно бухнувшись на колени прямо на асфальт. Гадаски и Ив последовали моему примеру.
Девки с хохотом наливали нам в пригоршни, а мы жадно пили, словно дикие звери, золотистую жидкость – похожую на мочу молодых олених. А в их рюкзаках оказались еще бутылки, они основательно затоварились, словно предчувствовали что-то. В знак благодарности мы дали отсосать им из наших бутылок коньяк. Мы обнимались, целовались, кричали друг-другу в уши различные глупости, нам было весело и по-настоящему хорошо.
Мы сладострастно лизали их сладковатое шампанское с наших пиздообразно сложенных вместе ладоней, а они самозабвенно отсасывали наш коньяк из хуеподобных бутылок. Мы словно бы занимались сексом. И мы им действительно занимались. Это был секс в особо извращенном виде – новый вид секса нового тысячелетия…
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ
Танцы на битом стекле. Buenus Anus! Car Walking.
Зимнее небо Ниццы пылало огнями фейерверков, где-то сбоку бешено вращался бутафорский глобус, из репродукторов неслась попсовая музыка. Плотная толпа пьяно качалась, вливая в себя кубометры спиртного. И не было ей ни конца, ни края. Но неожиданно прямо у меня перед глазами замаячил просвет. Впереди была пустота.
Неизвестно кем и как организованный круг пустоты зиял из-за людских голов. Круг был круглым. И в этот круглый круг пустой мостовой летели пустые бутылки. Некоторые из них с треском разбивались вдребезги, другие подпрыгивали, падая в быстро растущую кучу битого и небитого стекла. Я захуярил туда свою высосанную америкосками стеклотару, остальные последовали моему примеру. Но бутылка моя не разбилась.