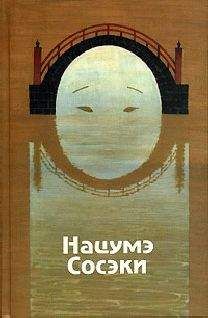Жан Жубер - Красные сабо
— Кто это такой — Ницше?
— Один философ. Потрясающий! Но ты еще слишком мал. Ты прочтешь его позже…
Позже я часто спрашивал себя, как ей удавалось примирять любовь к Ницше с идеями социализма и пацифизма, которые она также исповедовала в то время.
Здесь же, в этой комнате, Жаклина однажды спросила меня:
— Кем ты собираешься стать?
Мне пришлось ответить: моряком, земледельцем или лесничим. Она рассмеялась, потом очень серьезно объяснила мне, что я ведь хорошо учусь и скоро поступлю в коллеж, а значит, должен метить выше.
— Метить выше?
Что же могло быть выше, чем плавать по морям или жить в одиночестве среди лесов?!
— Ну, ты сможешь стать учителем.
И она поведала мне, как настрадалась от того, что не могла учиться в университете из-за бедности родителей, а главное, из-за тяжелой болезни, приковавшей ее к постели на долгие месяцы, — вот и приходилось ей теперь работать учительницей начальной школы в каком-то жалком захолустье. Ах, если бы она могла преподавать в лицее, какая была бы жизнь! Как прекрасно, грезила она вслух, жить среди интеллигентных, умных коллег, которые много читают, путешествуют, слушают музыку, с которыми можно вести интересные разговоры!
Но я вдруг упрямо возразил ей: нет, все равно мне больше нравятся море и лес.
— Это совсем другое дело. А потом, ты ведь мог бы также писать книги.
— Писать… книги?
— Ну конечно! А почему бы и нет?
Эти слова меня по-настоящему поразили. Я еще только начинал учиться ценить книги, а те, кто их писал, казались мне существами иной породы, и мне так же трудно было представить себя пишущим книгу, как, скажем, охотящимся на оленя вместе с графом де Грамоном. Нет, я не был рожден для столь возвышенной участи, хорошо хоть, если мне удастся спастись от работы на заводе. В остальном же будущее было пока что скрыто в тумане, и, уж конечно, я не видел себя писателем. Так что когда позже я начал сочинять стихи, то записывал их в блокнот, который тщательнейшим образом скрывал ото всех, и мне понадобилось еще целых пятнадцать лет, чтобы осмелиться подумать о публикации книги, да и то я не питал особых иллюзий на свой счет и с трудом отважился на это. Из поколения в поколение в наши жилы вместе с кровью предков переливалось смирение, и если кто-то из нас и мечтал возвыситься, то разве что в иерархии слуг. Но стать художником, писателем!.. Я долгое время не мог избавиться от ощущения, будто я самозванец, обманщик, — боюсь, это чувство до сей поры не исчезло окончательно. Я причисляю себя к когорте признанных писателей не более, чем, скажем, к клану крупной буржуазии, представители которой более или менее тактично, но всегда успешно устанавливают между собой и мной определенную дистанцию, которую, впрочем, я и сам стараюсь сохранять. Что касается простого люда, то я давно уже чувствую, что и тут потерял свое место. Так вот я и плыву по воле волн, лишившись своих корней и нигде не находя себе пристанища.
А в тот день слова Жаклины бесконечно удивили меня, и я возразил:
— Но ведь у нас никто никогда не писал книг!
— Ну так тем более, ты и начнешь! Слушай, ты иногда таким дурачком бываешь!
Я обиделся и замкнулся в молчании. Но, может быть, именно в тот день заронилось в мою душу зерно, которое медленно, но упорно стало прорастать.
А еще я долгое время не мог набраться храбрости, чтобы войти в книжный магазин. Сперва я подолгу торчал перед витриной, разглядывая книги: я читал имена писателей, названия, а иногда, если книгу выставляли раскрытой, чтобы показать иллюстрацию, мне удавалось, приклеившись лбом к стеклу, прочесть целую страницу, которая часто обрывалась на середине фразы. Вглядываясь в глубину магазина, я видел там хорошо одетых мужчин и женщин: учителей, нотариусов, врачей, а может быть, и тех таинственных инженеров, о которых изредка упоминал мой отец, — они либо беседовали с продавцом, либо листали книги. За исключением Жоржа и Жермены, члены нашей семьи никогда не переступали порога этого магазина, если же моей матери и случалось зайти туда, чтобы купить мне книгу в подарок, она стесненно и робко открывала эту дверь. Как и я, она боялась быть не на высоте положения и показаться продавцу — если он вдруг вздумает заговорить с ней — смешной и неотесанной. И когда я встречался взглядом с продавцом, пожилым и внешне вполне доброжелательным человеком, я быстро отводил глаза и отходил от витрины, будто был в чем-то виноват.
На самом деле у нас было две книжные лавки, и, когда я поступил в шестой класс коллежа, я начал ходить в одну из них, где продавались главным образом канцелярские товары и школьные учебники, — вот этот-то магазинчик и послужил мне преддверием рая. После долгих колебаний я осмелился перейти из него в тот, другой. К счастью, в первый раз меня никто ни о чем не спросил. Если бы мне задали какой-нибудь вопрос, я, наверное, пролепетел бы, что ошибся дверью или что-нибудь в этом же роде. Но никто как будто не обратил на меня внимания, и вот я смог наконец подойти к книжным полкам, разглядеть, где стоит та или иная книга, которую я куплю, как только у меня заведутся деньги. Лишь несколько недель спустя я осмелился достать с полки и полистать книгу, как это делали те господа, которых я видел с улицы. Еще чуть позже я отважился прочитывать целые главу из романов, которые брал с полок там, где оставил их несколько дней назад. Но иногда книга исчезала, и мне так и не удавалось узнать конец.
Продавец терпел меня; впрочем, иногда, кроме тетрадей и других школьных мелочей, я покупал у него кое-какие книги, то ли устыдясь своего чтения украдкой, то ли торопясь спокойно дочитать книгу у себя дома. В этом-то магазине я и обнаружил антологию поэтов-символистов, первый том сочинений Верлена и сборник Франсуа Порше, который привел меня в восторг. Как я теперь вспоминаю, он был полон меланхолических и сентиментальных стихов, наверняка бесцветных и вялых, но полностью перекликавшихся с моими тогдашними мечтаниями. Тщетно я ищу эту книгу на полках своей комнаты, ее там нет. А жаль, хотелось бы мне сорок лет спустя перечитать эти стихи, которые я начисто забыл, помню лишь, как очарован был ими когда-то.
Но зато я обнаружил тут книги, принадлежащие моей матери, — Жорж Санд, Гюго, Ламартина, Поля и Виктора Маргерит, десятитомник «Жана-Кристофа» и другие книги, купленные когда-то мной самим, с моим именем и датой на титульном листе. Я изучаю, рассматриваю их, вновь узнаю их запах, иллюстрации, а вот знакомое пятно на обложке. Не выпуская книжку из рук, я сажусь, скрестив ноги по-турецки, на пол. Да, волшебство не умерло, и я опять поддаюсь ему.
Дневной свет меркнет в комнате, но я едва замечаю это и забываю повернуть выключатель. Снизу, как когда-то в детстве, доносится голос матери:
— Если хочешь, можно ужинать.
Я бормочу: «Да-да». Мне так не хочется отрываться от чтения, но неудобно перед матерью, я откладываю книгу и спускаюсь на кухню.
Если наша библиотека была более чем скромной, то дядина долгое время казалась мне совершенно неиссякаемой. Эти тома в грубоватом переплете из черного коленкора я в каждый свой приезд к нему брал и привозил обратно в связке на багажнике велосипеда, они казались мне сияющими просветами среди серости провинциальной жизни, которая, по мере того как уходило детство, все явственней обнаруживала свою убийственную монотонную тоску. Книги утоляли душевный голод, который я ощутил к двенадцати годам и который не оставляет меня доныне. Теперь-то я понимаю, что библиотека эта была не так уж и велика и особенно была бедна поэзией, если не считать Бодлера и Ришпена, попавших туда по какой-то необъяснимой случайности. Я сильно сомневаюсь, раскрыл ли дядя хоть раз в жизни Бодлера. «Такие штуки не для меня, я в них ничего не смыслю!» — говаривал он, когда я пробовал беседовать с ним о поэзии, и, насупившись, упрямо качал головой. Поэзия не доходила до него, его интересовали «идеи». То же самое было с Жаклиной и Жерменой — преданные своему делу учительницы, они воспринимали стихи лишь как предмет для декламации. А ведь известно, какого сорта «поэзия» мелькала на страницах учебников начальной школы: назидательные стихи, глуповатые жанровые картинки, банальные размышления о жизни отставных школьных инспекторов, и среди всей этой мешанины — неизменный и обязательный Гюго. Разумеется, не самые лучшие стихи. Только «Искусство быть дедом».
В конце концов я попросил у дяди «Цветы зла» и «Песнь нищих» и увез их на багажнике своего велосипеда. Я яростно жал на педали, несясь в темноте, и время от времени глядел через плечо, проверяя, не потерял ли я свое сокровище.
Сейчас я не могу припомнить во всех подробностях эту первую свою встречу с Бодлером, занявшим потом такое важное место в моей жизни. Помню только, что она пробудила во мне смешанные чувства — восхищенное изумление и почти испуг. Самые яркие стихотворения буквально вознесли меня на вершину блаженства, и я переписал к себе в тетрадь «Предсуществование», «Экзотический аромат» и, конечно, «Приглашение к путешествию»: