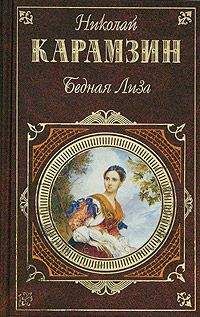Юрий Буйда - Жунгли
Свинина Ивановна всхлипнула и затихла. Муму обняла ее. Она не поняла ни слова из того, что говорила пьяненькая Свинина, но ей было жалко старуху. Да и сто тысяч рублей — это были хорошие деньги. Свинина Ивановна тоже считала, что сто тысяч — хорошие деньги. На них много чего можно купить — и картошки, и говядины, и копченой колбасы, и зимнее пальто. Но вот ногтей — ногтей на эти деньги купить было нельзя. А без ногтей не взобраться на гору Сион, где сладкий свет, где счастье, где золотой виноград…
Лампочка под потолком вспыхнула.
- Му-му, – жалобно промычала глухонемая.
- Ничего, Анечка, поплачь, милая, поплачь, – сказала Свинина Ивановна. – Душе дырочка нужна… поплачь, помумукай — полегчает… а ногти хорошие, без обмана, не бойся…
- Му-му, – тихо и грустно повторила Муму.
- Вот и хорошо… – Свинина Ивановна погладила ее по голове. – Вот и договорились…
БРАТ ФЕВРАЛЬ
Старик лежал в огромной ванне посреди черной кривой комнаты с низким потолком, с которого свисала на витом шнуре лампочка-сорокопятка, и размеренно дышал. Над водой возвышались массивный купол бритого черепа, низко надвинутый на брови лоб, мощный клюв с рваными ноздрями и змеиные губы, запекшиеся в змеиной ухмылке. Он лежал, вытянувшись, в ледяной воде – двести два сантиметра, сто двадцать семь килограммов, тридцать пять градусов, бугорчатый шрам поперек горла. Уродливое огромное его тело напоминало ствол древнего дерева: корявое, все в наростах, в пятнах и трещинах. Он лежал в кривой комнате с ободранными стенами, одна из которых была украшена картой Антарктиды. Неподвижно лежал по губы в ледяной воде, размеренно дыша и покрываясь чешуей. Не человек, а доисторическое чудовище, всплывшее из мглистых глубин зла.
Однажды, когда я на спор с дружками прокрался в его дом и склонился над ванной, старик вдруг открыл глаза и сказал: «Больно». Никогда не забуду этот голос, который мог бы принадлежать самой боли.
Брат Февраль – так прозвали в Чудове этого огромного бритоголового старика.
Когда он брел по городу, волоча за собой тяжелую тень, матери хватали детей в охапку, а беременные отворачивались, чтобы не навредить будущему ребенку. Он был служителем крематория, то есть принадлежал к тем священным животным, список которых открывался царями и заканчивался палачом. Может быть, только поэтому его и боялись. Иногда за ним увязывались собаки и сумасшедшие, но вскоре отставали, потому что старик не обращал на них никакого внимания.
Жил он в ветхом домишке с заплатанной крышей, почти без мебели, варил картошку в поцарапанной мятой кастрюле, иногда заглядывал в «Собаку Павлова», чтобы выпить кружку пива, но в разговоры ни с кем не вступал. Говорили, что он мог съесть яйцо в скорлупе, зашнуровывать ботинки обрывком телефонного провода и улечься на голом матрасе, без простыни, а то и просто на полу.
Он ни кого не подпускал к себе, ни с кем не сближался. Казалось, в его жизни не было ничего и никого – ни людей, ни Бога. Да и сам он не был главным героем своей жизни.
Рассказывали, что когда-то Виталий Февралев служил конвоиром, охранял заключенных, которые строили в Чудове и окрестностях то ли канал, то ли дорогу, то ли какой-то секретный военный объект. От того строительства осталось мало следов – огрызок моста, повисший над озером, да улица проложенная через городок за восемь часов и поэтому называвшаяся Восьмичасовой. Стройка была заморожена и заброшена после смерти Сталина, а охранника Февралева судили за убийство и отправили на Колыму, где он и отбыл десять лет.
По возвращении в Чудов он устроился в леспромхоз. Года через два или три его придавило бревнами – Брат Февраль остался цел и невредим, однако потерял память. Он не помнил, за что получил ордена и медали, которые хранились в шкатулке, почему он совершил убийство, за которое его отправили в колымский лагерь, кто была его жена и были ли у него дети, наконец – что строили в Чудове, откуда тут взялись этот огрызок моста и эта Восьмичасовая улица. Он мог часами разглядывать фотографию, на которой был запечатлен веселый солдат в обнимку с кудрявой толстоносой девушкой, но не узнавал этих людей.
Когда его окликали по имени, он замирал на месте, недоверчиво смотрел на прохожего, словно сомневаясь в том, что тот не ошибся, и спрашивал тихим голосом: «Ты кто, брат?»
Здороваясь как-то со мной, он задерживал мою руку в своей и несколько секунд изучал ее, сжимая то сильнее, то слабее и разглядывая так, словно перед ним была вовсе не рука, а какое-то неведомое животное. Когда он исчез из виду, я вытянул перед собой правую руку и уставился на неё. На мгновение мне показалось, что она вдруг превратилась в левую. Мороз по коже…
Однако утрата памяти не мешала Брату Февралю справляться со своими обязанностями в крематории. Он следил за чистотой в помещениях, заботился об исправности оборудования и всегда знал с точностью до грамма, сколько вышла пепла после сожжения усопшего. Люди этим всегда интересовались: он гордились тем, что их покойник потянул аж четыре фунта, тогда как соседский оставил после себя едва три с половиной (овечью шерсть и пепел в Чудове считали только на фунты).
В свободное время Брат Февраль часами бродил по городку и окрестностям, словно искал что-то. Женщины его жалели, а наш сосед – старик Слесарев - только фыркал: «Нашли кого жалеть! Я вот ему завидую». Голод, холод, война, болезни, бедность – старик Слесарев с радостью забыл бы, наверное, всю свою жизнь. Хотя был в его жизни период, о котором он вспоминал с восторгом и даже с нежностью. С конца июля 1941 до середины января 1942-го Слесарев служил в кремлевском полку и каждый день стоял в карауле у мавзолея. Тело Ленина тогда тайком вывезли в Сибирь, в Тюмень, но у мавзолея на Красной площади по-прежнему менялся караул, чтобы никто ни о чем не догадывался. Сталин был повелителем мечты, а Ленин ее хранителем. И каждый день Слесарев заступал на пост номер один, чтобы охранять эту мечту. Каждый день ровно за две минуты тридцать пять секунд он делал двести десять шагов от Спасской башни до мавзолея и замирал с винтовкой в руках. Он знал, что мавзолей пуст, и именно то вызывало у него восхищение. Охранять мумию Ленина или склад с тушенкой – это обычное дело, а вот стоять на страже пустоты – это уже подвиг веры, чистый абсурд и высший градус героизма. Потом его отправили на фронт. Слесарев воевал пол Сталинградом и на Курской дуге, дошел до Кенигсберга, был четырежды ранен и награжден, но все это не шло ни в какое сравнение с теми часами, которые он провел у мавзолея на страже пустоты, в одиночку противостоя всем смыслам мира…
А Брат Февраль – у него даже воспоминаний не было. Беспокойство – вот и все, что у него осталось. Иногда он останавливался перед аптекой или у старой ивы на берегу озера, замирал на несколько минут, словно пытаясь вспомнить, что в его прежней жизни могло быть связано с этой аптекой или с этой ивой, а потом шел дальше, волоча за собой тяжелую тень…
Тем летом мы взялись следить за ним. Нам вдруг пришло в голову, что Брат Февраль ищет клад. Ну да, клад. Сундук с золотом, например. Только этим и можно было объяснить его упорство, его кружение по окрестностям: старик пытался вспомнить заветное место, то самое местечко, где когда-то он зарыл сокровища. Откуда они взялись, эти сокровища, - об этом мы не задумывались.
Мы ходили за ним по пятам, и если старик задерживался где-нибудь, на берегу озера или в лесу, мы принимались копать в том месте: у нас при себе всегда была саперная лопатка.
Но никаких сокровищ мы не нашли.
В конце концов нам это надоело. Вдобавок одного из моих дружков отправили в пионерлагерь на два месяца, другого, который был хозяином саперной лопатки, родители увезли на юг. Компания распалась, я остался один.
Следил я за стариком теперь скорее по инерции. Занятие это было интересное: Брат Февраль кружил по одним и тем же местам, аптека, Восьмичасовая, огрызок моста, старая ива, низко склонившаяся над водой, лес на другом берегу, где с большим трудом можно было различить следы давнего строительства – оплывшие траншеи, полузаросшую просеку, прорубленную когда-то для прокладки узкоколейной железной дороги, куски ржавой колючей проволоки, въевшиеся в деревья, сгнившие ботинки зэков, автомобильное колесо на дне ручья…
Но однажды я застал старика в необычном месте. Впрочем, необычным оно было только потому, что Брат Февраль никогда туда не заглядывал.
Это была овальная поляна в лесу, засаженная молодыми елочками. Там пахло луговой клубникой и жухлой травой. На краю поляны высился кусок кирпичной стены, покрытой мхом и поросшей воробьиным виноградом, под которым угадывался дверной проем, - все, что осталось от дома.
Брат Февраль развел руками плети воробьиного винограда, протянул руку – гнилая дверь вдруг обрушилась, осев облаком пыли, и в его руке осталась только дверная ручка. Старик обернулся, обвел взглядом поляну, залитую предзакатным зеленовато-розовым светом, помедлил, опустился на корточки и закурил.