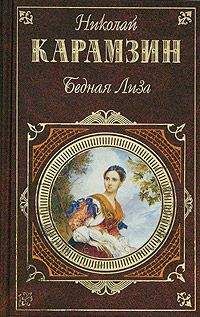Юрий Буйда - Жунгли
- У меня много стихов, – сказала Любинька. – Хочешь еще послушать?
- Давай. – Люминий прокашлялся. – Люблю стихов.
Любинька с выражением, размахивая руками и топая ногой, стала декламировать:
Светит солнце в небесах,
Птички прилетели,
Это к нам пришла весна,
Ласточки запели.
- Надо же, – сказал Люминий. – Ты все это сама, что ли, придумала?
- А кто же.
- Как в книжке.
- Правда? – обрадовалась Любинька. – Я каждый день пишу по стишку, а иногда больше…
Иногда как начну писать, так и пишу, и пишу…
Свет снова погас, и Люминий наконец осмелел и попытался обнять Любиньку. Она снова задрожала, и Люминий тоже задрожал, не зная, что делать дальше.
- Хочешь еще жувачку? – спросил он.
- Я эти жувачки могу с утра до вечера жевать, – с трудом выговорила Любинька. – Как дура какая-нибудь, жую и жую, жую и жую…
Вспыхнул свет. Любинька сидела на диване рядом с Люминием, чуть подавшись вперед, вся потная, пахнущая лошадью. У Люминия от страха начала болеть голова. Ему снова захотелось положить ладонь на Любинькино влажное колено, но рука не слушалась.
- У меня много жувачек, – наконец выдавил он из себя. – Я тебе каких хочешь принесу.
Любинька вдруг засмеялась и толкнула Люминия бедром. Он в ответ легонько толкнул Любиньку и хрюкнул от волнения. Она снова его толкнула и тоже хрюкнула, он — ее. Несколько минут они так и толкались, хрюкая и давясь смехом.
Свет снова погас.
- А я знаю, что ты сейчас делаешь, – сказала Любинька. – Я хоть и не вижу, но чувствую.
- Как это?
- У слепых такое особое чувство есть… мистическое чувство…
- И чего я сейчас делаю?
Люминий скорчил рожу и выжидательно замер.
- Сидишь. – Любинька сделала паузу и произнесла замогильным голосом: – Ты сидишь рядом со мной.
- Надо же…
- Я, например, знаю, про что ты сейчас думаешь. Хочешь скажу?
- Давай…
- Нет, не скажу.
- Да ладно, обещала ж.
- Ладно. – Любинька понизила голос. – Тогда закрой глаза.
- Зачем глаза? И так темно.
- Закрой, а то не скажу.
- Закрыл. – Люминий зажмурился. – Честно — закрыл.
- Ты думаешь про меня, несчастный, – прошептала ему на ухо Любинька.
- Ни хера себе!
- Угадала?
- Ну да! Как это у тебя получается?
- Я же говорила: особое чувство.
- Иди ты…
- А что ты про меня думаешь? – спросила Любинька безразличным голосом.
- Ну разное… ты хорошая…
- Ты тоже. – Любинька содрогнулась от счастья, и от нее еще сильнее запахло потом. – Клянусь кровью.
У Люминия от таких слов закружилась голова.
Помолчали.
- У тебя, наверное, много девушек было, – сказала Любинька прерывающимся от волнения голосом, теребя пуговку на блузке.
- Да нет у меня никого.
- Ох и врун же ты!
- Чего это я врун?
- Потому что врун.
- Ничего я не врун.
- Все равно врун.
Люминий набрал полную грудь воздуха, обнял Любиньку и приложился губами к ее губам. Девушка подалась было к нему грудью, но вдруг отпрянула, вырвалась. Оба тяжело дышали.
Лампочка под потолком снова загорелась.
- Хочешь еще жувачку? – спросил Люминий.
- Я уже объелась ими совсем… – Любинька помолчала. – А ты правда меня любишь?
- Ну… – Люминий вдруг взмок. – Я это, как его… ну, короче, да…
- И я.
- Правда, что ли?
- За свою правду я готова пасть смертью.
- Ну, это… короче, ты за меня пойдешь, а?
- Как это? – прошептала Любинька. – Замуж?
- Замуж.
- По-настоящему? На всю жизнь?
- На всю.
- Мне шестнадцать лет, Славик. Через полгода будет семнадцать.
- Ну и что, что шестнадцать?
- Правда?
- Чего правда?
- Правда-правда?
- Ну я ж говорю… Пойдешь или нет?
- Я согласна. – Любинька прерывисто вздохнула и приложила руки к груди. – Я отвечаю: да. Отныне мое сердце всецело принадлежит тебе, Ростислав. Я твоя навеки. Поцелуй меня.
Он неловко поцеловал Любиньку.
- Нет, не так, – прошептала Любинька, мягко отстраняя его. – Выключи свет. Пусть тьма поглотит нас.
- Как это — поглотит?
- Выключи свет.
- Совсем, что ли, выключить? – шепотом спросил Люминий.
- Совсем.
Глухонемая Муму удивилась, увидев на пороге Свинину Ивановну. Если она кого и ждала, то Люминия, а вовсе не колдунью с мешком на плече. Поплотнее запахнула халат и посторонилась.
- Я к тебе, Аня, – сказала Свинина Ивановна, проходя в кухню, – с важным разговором. – Опустила мешок на пол, села на табурет. – Даже не знаю, с чего начать… – Вынула из кармана бутылку водки и поставила на стол. – Мы ведь с тобой, можно сказать, почти не знакомы…
Муму достала стаканы, тарелку с хлебом, банку огурцов и тетрадку с карандашом.
- Очки забыла, – сказала Свинина Ивановна, разливая водку по стаканам. – Ничего, как-нибудь…
Они чокнулись и выпили.
Свинина Ивановна бросила в рот огурчик и написала в тетради: «Поговорить». Муму кивнула. «Любинька» – написала гостья. Приложила ладони к глазам и прокричала:
- Слепая!
Муму снова кивнула.
«У меня рак» – написала Свинина Ивановна и снова повысила голос:
- Рак! Понимаешь? Рак!
Муму сочувственно покачала головой.
«Слава Богачев» – написала Свинина Ивановна.
Глухонемая насторожилась.
- Не бойся! – крикнула Свинина Ивановна. – Ты только не перебивай меня! Не перебивай, ладно?
Она взяла карандаш и стала писать: «Любинька выходит за Славу. Любинька слепая. Если не выйдет за Славу, умрет без меня. Ее продадут на органы… – Подумав, добавила: – В Америку. Или на собачий корм. – Потянула носом. – Она слепая. – Зачеркнула слово «слепая». – Она ничего не умеет, только жить. Одна она не проживет. – Зачеркнула последнюю фразу. – Слава будет ее защищать. Больше некому. Любинька… – Свинина всхлипнула. – Любинька себе трусов не постирает, не то что еще что. Обед приготовить, постирать, погладить, полы помыть Любинька не помоет. Она слепая. – Зачеркнула фразу. – Ее за руку надо водить. – Зачеркнула. – Она только родить может».
Свинина Ивановна вспотела. Она налила себе водки и выпила полстакана.
Муму смотрела на бумагу, сдвинув брови на переносье.
Свинина Ивановна снова взялась за карандаш. «Приходи к ним жить, Анна, – решительно написала она. – Ты добрая, не слепая. А если кого родишь, он тебя не бросит. Я тебе отпишу двести… – Зачеркнула «двести». – Сто тысяч рублей».
Свинина Ивановна допила водку. Она не смотрела на Муму.
- Бог меня накажет, старую дуру, – проговорила она. – Но у меня нет никого — одна Любинька. У нее тоже никого нет, одна я. А я помру — что с ней будет? Ничего с ней не будет, просто помрет и все. Обманут ее… она ведь добрая девочка, у ней зла и за сто рублей не купишь… ты меня прости, Аня… – Она подняла голову. – Прости.
Муму подтолкнула к ней карандаш, но Свинина Ивановна покачала головой.
- Я тебе не Пушкин, Аня, я тебе словами скажу…
Глухонемая не спускала взгляда с губ старухи.
- Поймешь — хорошо, не поймешь — прости…
Она наклонилась — Муму вовремя схватила ее за плечо, не дав упасть, – и стала развязывать мешок.
- Вот у меня тут мешок, – пробормотала Свинина Ивановна. – У меня много чего есть, не бойся… у меня и деньги есть… я Славке сто тысяч дам, только бы он Любиньку не обидел… и тебя он не обидит… вот, смотри… – Развязала наконец мешок, зачерпнула горстью какую-то шелуху. – Видишь? А ну догадайся, что это такое? А? Ни за что не догадаешься… это тебе не что-нибудь, а ногти… понимаешь? Ногти! Они мне от бабушки достались… от бабушки и от матери… после смерти попадет душа на тот свет, а там, Аня, гора Сион… большая такая гора… – Она взмахнула руками. – Огромная! И вот полезет душа на гору Сион… лезет и лезет, лезет, ногтями цепляется… а вдруг ногтей не хватит? Поломаются, то да се… Ага! Вот ногти и пригодятся! Женские ногти — они самые крепкие, самые хорошие. Видишь? Мешок ногтей. Бабушка стригла ногти и складывала, складывала… и моей матери приказала, и та стригла и складывала… – Она понизила голос. – Я тоже стригла, Аня… у меня дома три мешка ногтей… три! – Показала три пальца. – Три мешка одних ногтей! – Помолчала, пьяно моргая. – Муж мой покойный Сереженька узнал про ногти и ну смеяться… шутник он был… ты бы, говорит, лучше крылья от мух собирала… – Хмыкнула. – Это, значит, чтоб на тех крыльях — раз-раз! – и ты наверху… а я говорю, нет, Сереженька, мухи… мухи по говну ползают — куда им в рай… их на гору Сион пускать не велено… в раю мух нету… нету там мух… да ногти и надежнее… ногти — это ногти, а мухи что? Мухи и есть мухи…
Она сползла на пол и села, вытянув ноги. Глухонемая, поколебавшись, опустилась рядом.
Лампочка под потолком вдруг погасла.
- Я тебе, Анна, подарю этот мешок, не бойся… у меня дома еще два, а этот я тебе подарю… – Свинина Ивановна всхлипнула, обняла Муму. – Бедная моя Анечка… бедные, бедные мы все… и Любинька… все хотят счастья, а что счастье? Нету тут счастья… вот на горе Сион — счастье… кабы знать, где эта гора находится, в какой стране… бабушка говорила, что на том свете… а такой страны нету… хочется, а — нету!.. Большая гора, ой и большая… выше неба… внизу темно, сыро… грязь и плесень… мыши бегают… а там, наверху, – свет… золотой, небывалый, яркий… это Божий свет, Анечка, настоящий Божий свет… и виноград… там ведь еще и виноград… не тот, что за деньги… это что за виноград? Это не виноград, а стыд один… а там — ого какой виноград… гроздья огромные, ягоды золотые… светятся, как угли… горят, пылают — аж страшно… но ты не бойся, не бойся, Анечка, это же особый виноград… возьмешь ягоду в рот, и она во рту вспыхнет, вспыхнет, и ты вспыхнешь, и сладкий свет Божий войдет в тебя навеки, и будет счастье… Анечка! – Она плакала, прижимая к себе глухонемую. – Анечка моя милая, прости старуху! Прости! Так хочется счастья… чтобы Любинька, и Славка этот дуралей, и чтобы ты, Анечка… и я чтобы… Господи, так хочется… а ногти — вот они ногти, нам хватит, всем хватит… я пока жива, еще настригу, и Любиньке прикажу… чтоб всем хватило… Анечка, прости… я ж хочу как лучше… чтоб виноград… чтоб всем хватило…