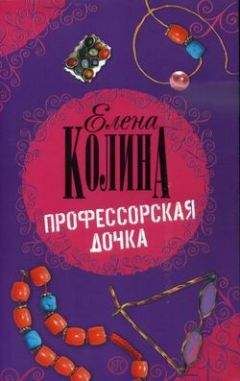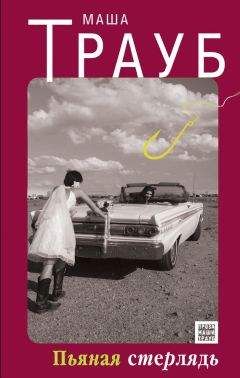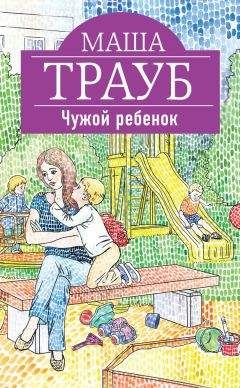Фарид Нагим - TANGER
Пил с Ниной Васильевной и Вовой.
— А ты все так же на даче, Вов?
— Да…
Зачем же приезжала Асель? Наверное, по работе, командировка какая-нибудь. Как же грустно пахнет тот шарф. Если бы мы нечаянно встретились, я бы умер. Ей, наверное, рассказали тут про меня. Она и в Алмате в последний день его носила. А если бы она вернулась? «Анвар, давай простим все самим себе и начнем по-новой. Будем в общаге жить. Ты в аспирантуру пойдешь, тебя же приглашали, а я работать буду у Васьки в журнале „Где учиться“».
— А там не холодно, Вов?
— Холодно, вообще-то…
Ей рассказали, как я здесь бомжую и опускаюсь. Все рассказали. Дуданова усилила все краски, рассказала все про меня, как я здесь нищенствую и загибаюсь, сука.
— Это что, уже семь часов, что ли?! Ничего себе, вот же только было пять, куда летит время?!
— Опаздываешь? — поинтересовался Вова.
— Нет, я так. А где же Анатоль?
— Работаит, вот как ты уехал, устает, командуит даже иногда, — обрадовалась Нина Васильевна.
— Ты ему скажи, пусть он мой маленький телевизор принесет!
— Я ему говорила, Владимир.
— Ну, так что толку-то, что говорила? Говорила-говорила, сам не скажешь, так…
Я пошел и снова набрал номер Дудановой. Никто не брал трубку. Позвонил Надежде. Она сразу узнала меня. Договорились о встрече. Голос ее волновался.
Пошел к Димке, он ел.
— Гази с Аселькой твоей встречался.
— Я так и думал.
— Прекрасно устроена в социальном плане, в квартире сделали евроремонт с матерью.
— Прекра-асно, прекра-асно, — тянул я.
— На какой-то совместной английско-казахской фирме работает.
— Прекра-асно.
— Приезжала в командировку.
— Прекра-асно.
— Прекра-асно, прекра-асно, — сказал Димка. — Ебаный неудачник.
— Да, — сказал я и убрал с его лба прядь волос.
Он вздрогнул.
Пришел Анатоль и обрадовался мне. Он сильно изменился, даже стал красив мужественной красотой. Мы выпили с ним.
— А ты заматерел, заматерел…
— Я курить бросал, Анатоль.
Димка с конвертом. Письмо от Полины. Где она теперь, где ее искать? Оборвалась наша связь, Полина.
— Понимаешь, я тем самым хотел сказать, что я не к тому, а к тому, что я не хотел, чтобы ты обижался… — он был пьян, когда успел, пьяный анархист.
— Слушайте, уже одиннадцать?! Вот же только… Куда время летит?!
Я пошел в туалет и смотрел на свой живот. Да, заматерел, и пупок углубился. Всегда был плоский, а вот теперь углубился, даже какая-то одежная ватка начала в нем скапливаться. Странно, сам чувствую, что я заматерел, но из-за любви ко мне Алексея Серафимовича, оттого, что я с ним делаю это, и он со мной. И он своими руками готовит мне еду, и хорошо кормит меня ею. Я три года прожил с Асель и не заматерел. Нет, я с нею так и не заматерел. Вот как я заматерел, твою мать.
Достал из кармана конверт Полины. Открытка со звездой над пустыней и человечком в углу: Le Petit Prince. Бундеспочта так ударила молотком с печатью, что над пустыней появился еще и круглый оттиск солнца.
«Дорогой Человек! Пусть для тебя всегда горит звезда. Пусть ее свет не дает поселиться в твоей голове дурацким мыслям, и пусть ее присутствие на твоем небе иногда напоминает обо мне. Я поздравляю тебя с Днем рождения. Я знаю, у тебя все будет хорошо. „…Мы ответственны за тех, кого приручаем…“»
Маленький рыжий Лис.
Она писала гелевой ручкой и слово «рождения» чуть смазала пальцем. Потом снова пил, снова ходили с Димкой за водкой, пытались снять девчонок.
К последней электричке я опоздал, пустое табло, снег над железными путями, картонная тара летала по площади.
Ехал один в вагоне метро и казался умершим сам себе. Обращался к Асель и понял некую трагичную и такую безысходно трезвую истину, какую можно понять, только когда ты очень и очень пьян. Искал дом Надежды, постучал в ее окно, ветер сдувал с подоконников снежную пыль. Появилась женщина с распущенными волосами, потом злое мужское лицо. Я заблудился и встал в отчаянии.
Пешком вернулся на Петровско-Разумовскую. Дверь открыл Димка. Лег спать на кухне. Болела голова, хотелось есть. Жевал «Дирол». Аселька лежала с одного края, Алексей Серафимыч с другого, почти под столом, я метался в бреду между ними. Проснулся. Димка сидел в темноте рядом со мной, в руке бутылка водки.
— Ты чё, Дим?
— Страшно, бля, Анварка.
В электричке тепло, уютно и как-то правильно, не так, как у меня. Пьяный или с похмелья, ты обладаешь особой трезвостью, как бы иногда проваливаешься сквозь мягкое стекло этого мира в особо трезвую реальность. Надписи, типа НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ или ВЫХОДА НЕТ, виделись мне как приговор.
На станции было особенно холодно. Все в снегу, только деревья черные и черные гнутые рельсы на белом. На кривой дорожке, издалека огибающей кладбище и церковь, я встретил Алексея Серафимовича. Он показался мне особенно маленьким, обиженным, несчастным, и я пошел скорее, чтобы обрадовать его. Он узнал меня и будто хотел пройти мимо. У него были красные, сырые глаза и красные, набухшие веки. Я увидел, что он непроизвольно обрадовался мне и заставил себя стать равнодушным, холодным. И равнодушное лицо его вздрогнуло, трагически искривилось.
— Ты без шапки! — вскрикнул он.
— А, ну да…
— Твою мать, Анвар! Мороков так же уходил за картошкой… а потом звонил из Владивостока. Иди, я же не жена тебе. Ботинки взял?
А ботинки так и остались лежать в пластиковом пакете в Димкиной комнате, вместе с тем шарфом.
— Странно, как все предусмотрено в этом мире, — сказал он.
Приснилась Канаева, и ты пропал. Значит, они уже знали где-то там, что ты неизбежно не придешь ночью, все уже написано…
Он шел теперь такой важный, смешно распахнув куртку на груди, распустив шарф.
— Заборю тебя сейчас нахер!
— Ох, ты бля, силач Бамбула! — захихикал он и побежал боком.
— А кто это?
— Был такой советский фильм, его Толик любил… А пойдем за водой на источник сходим и на кладбище зайдем?
Шли вдоль ограды, и вышли на большую могилу Пастернака, она выдавалась квадратным выступом, на белом камне его молодой вдавленный профиль. Посидели на длинной скамейке. Казалось, сейчас должно что-то произойти, даже, несмотря на то, что знал — ничего не произойдет и не изменится в жизни.
Он стоял в отдалении, в странной задумчивости глядя на камень, ниже могилы Пастернака, там была выбита одинокая фраза: затопили нас волны времени, и была наша участь мгновенна.
три
В воздухе появились редкие снежинки, а потом снег повалил, как из трубы крупными снежными лохмотьями. В комнатах стало светлее, мягче и радостнее. Весь день неумолчный гул, шипение и шуршание снежинок в сосновых лапах, их повсеместное и всепроникающее скольжение и круговерть. Выходил позвонить и встретил радостную Глашу Грошину. Договорились погулять вечером. Радовался этому, как знаменательному событию.
Приходил Сычев, радостный, уютный и мягкий, как снег. К вечеру прибежал Суходол, захлебывающийся от счастья и снега.
Суходол. Анварик, наконец-то я добежал! Это ты?
Анвар. Нет.
— Фонарик, я подумал, ведь уже зима, а мы так мало с тобой потребляем витаминов, я купил крымский херес, ты знаешь, что крымским хересом лечили Брежнева. Его печень уже не принимала никаких лекарств, и именно в хересе были все необходимые компоненты…
— И чего, как говорил твой Юка.
— Давай, это, полечимся.
— Можно.
— Сегодня покупаю котлеты у двух девушек, приятные такие, одна взвешивает, другая помогает ей. Стою, жду. «Вы что-нибудь желаете»? — спрашивает вторая девушка. И я, думая, что мне уже взвесили котлеты, говорю: «Я уже все отжелал». Им страшно понравилось. Они так смеялись. А я только потом понял двойной смысл.
— Да, смешно получилось… Мне позвонить надо.
— А я кА-атлеты пожарю. Возвращайся скорее. Я еще тебе булки с маком, с изюмом купил на утро, как ты любишь.
— Они тебе больше нравятся, вот ты их и берешь, а мне нет, особенно с изюмом.
Снег медленно парил, словно бы завис в ночном воздухе. Глаша ждала меня у железных ворот Дома творчества. Пушок на верхней губе. Брови, натужно хмурящиеся при любом вопросе. Ожидание какого-то подвоха или насмешки в глазах. Крепко сбитая фигурка, словно бы тесная ей. Казалось, что ей трудно переставлять ноги, так тесно они сжаты.
— Давай по парку прогуляемся?
— А ты что, у Жоры Ассаева живешь?
— Так, приезжаю иногда.
— А вы что, родственники, я не понимаю?
— Ой, Глаш, долгая история, короче говоря.
— A-а, а ты где работаешь?
— Помощником. Помогаю тем, кому делать нечего.
— Как это? A-а. Ну, ясно, я не поняла в начале. А как ты живешь?
— На желудочном соке, Глаш.
Снег на еловых лапах просвечивается насквозь и кажется, что он полый, надутый изнутри воздухом. Вдали надрывно кричит паровоз, слышна сирена милицейской машины. Гулко, коряво кракнула древесная плоть, потом еще, а снег все сыпал и сыпал. Все звуки казались странными и неземными. В одуванчике фонарного света снежинки и тени снежинок, тени теней снежинок. От снежинок кружилась голова, и казалось, что снег кружится сквозь тебя, уже парит внутри, будто ты стеклянный. Все уродливые поверхности стали прекрасны, округло ровны, небо работало с математической точностью и любовью.