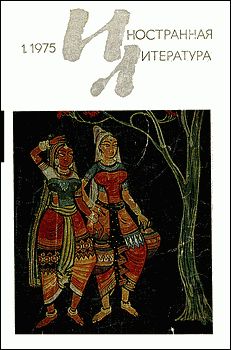Джеймс Олдридж - Горы и оружие
— Я предупреждала тебя, что если опять поедешь в Иран, то я не отвечаю за последствия.
— И как это расшифровать?
— Тебе моя расшифровка нужна? Ты хочешь, чтобы я тебе объяснила?
— Хочу, — сказал он. — Говори.
— Но глупо ведь. Лучше уж не касаться.
— Тогда зачем эти твои вызывающие слова?
— Я хочу встряской, шоком разбить твое упрямство.
Они обошли группу студентов, под черным анархистским флагом шагавших кто по панели, кто по газону бульвара.
— Да, для меня это шок — проговорил Мак-Грегор. — Но зачем ты так, я все же не пойму.
— Затем, что ты похож на глупого пса миссис Фавзи. — (Миссис Фавзи была их тегеранская соседка; пса ее, если уж вцепился во что, не принудишь разжать челюсти, сколько ни бей, ни пинай и ни окатывай водой.) — Я, видно, так и не заставлю тебя бросить этот курдский безнадежный кавардак. А ты и не знаешь всей его безнадежности.
«Должно быть, Мозель рассказал Кэти что-то сверх того, что сообщил мне», — подумал Мак-Грегор.
— Бросить я не могу, Кэти, — сказал он. — Нельзя еще пока.
— Айвр, я пытаюсь открыть тебе глаза на цену, которую ты платишь за свое упрямство. Опомнись…
— Но я ведь сказал тебе, что кончу дело и останусь в Европе навсегда. Почему тебе этого мало? Для чего настаивать на том, чтобы я скомкал, бросил все теперь, когда близок уже конец? Две-три недели еще…
— Ты прекрасно знаешь, что между нами встало не одно лишь это.
— Знаю. Но ведь я уже согласился остаться в Европе. Чего же еще от меня нужно?
— Нужно, чтобы ты постарался меня понять.
— Но я понимаю.
— Нет, не понимаешь.
Они прошли мимо «Двух обезьян», где, густо обсев столики, люди тратят массу денег и энергии — доказывают этим свою значимость.
— И если для того, чтобы вывести тебя из смехотворного повиновения курдам, требуется, чтобы я спала с Ги Мозелем, то я буду с ним спать.
— Ну, ты попросту губишь все, — сердито сказал Мак-Грегор.
— Да, гублю. А чем тебя иным пронять?
— Но какой бес тебя толкает? Чего ты от меня хочешь, Кэти? Чего?
— Лишь одного, — ответила она. — Хочу, чтобы ты снова стал тем, кем был когда-то: просто человеком, индивидуумом, личностью. Тогда и я снова стану, какой была.
— Ох, мутит меня от этих индивидуумов. Я никогда не стану здешним, — взмахом руки указал он на город.
— Очень жаль, — сказала Кэти сухо.
Они взошли по ступеням под колоннаду театра «Одеон». При входе их остановила девушка с «конским хвостом» и с красной нарукавной повязкой.
— Если вы из числа зевак-иностранцев, — сказала девушка, — то советую не вмешиваться в споры. Даже Саган на днях освистали. Глазейте и помалкивайте.
И вслед за Кэти Мак-Грегор вошел в этот красивый красно-плюшевый старый театр, который Жан-Луи Барро передал теперь студентам в пользование. Красные ковры «Одеона» были усеяны мусором. В поисках места, где встать, они прошли по круговому коридору за ложами, втиснулись в одну из них и из глубины ее стали глядеть вниз, на битком набитый, тускло освещенный амфитеатр.
Сцена была наглухо закрыта пожарным занавесом, и поперек шла матерчатая полоса с надписью: «Бывший «Одеон» — ныне «Свободная трибуна». Трибуны, как таковой, не было, прения о революции велись прямо из партера и со всех ярусов. Спорщица кричала: «Остерегайтесь провокаций!» Другая откликалась среди свиста: «Все равно они нас пулеметами, если что. Я знаю. Я с матрацной фабрики». В переднем ряду Мак-Грегор увидел Сеси, она сидела рядом с Тахой и то и дело кричала: «Правильно!», «Нет, неверно!» Мак-Грегор указал на нее Кэти.
— Вижу, — сказала Кэти. — Я ее сразу заметила.
Но где же Эндрю? Поискав глазами, Мак-Грегор обнаружил и сына. Эндрю сидел, облокотись о сцену и другой рукой непринужденно обняв за плечо девушку, а та нежно к нему прислонялась и слегка подергивала за волосы сзади.
— Вы не курили бы, — сказала бородатому тридцатилетнему студенту, дымившему в ложе трубкой, его соседка. — Еще пожар наделаете.
— Interdit d'interdire! — («Запрещать запрещается!») — ответил бородач.
Простояв с полчаса тут в тесноте, Мак-Грегор потерял уже нить словопрений, потому что с каждой сменой оратора менялась и трактовка революции. Но Кэти внимательно вслушивалась. Наконец она пожаловалась, что устала стоять, и через запасный выход они выбрались на улицу.
— Придется тебе хоть на этот раз побеспокоиться о Сеси, — сказала Кэти. — Таха непременно ее впутает.
— Да нет же, Кэти.
— Не возражай, Таха — рьяный заговорщик. Он, не колеблясь, использует Сеси, он кого угодно рад использовать. А Сеси все еще неравнодушна к нему.
— Она уже излечилась от прошлогодней блажи, — сказал Мак-Грегор, идя машинально к улице Мабийона по бульвару Сен-Жермен. Весь город, казалось Мак-Грегору, был насыщен враждой и раздором, и не хотелось глядеть по сторонам.
— Излечилась, по-твоему? Не знаешь ты их. Разве понять тебе, какая мучительная чушь владеет умом и душой восемнадцатилетней девушки? Особенно такой, как Сеси.
— Я сам попросил ее разыскать Таху — мне нужно повидаться с ним. Вот и вся подоплека их встречи.
— Боже, боже, — вздохнула Кэти. — Завидую я твоей слепой и безграничной вере.
Они повернули на кривую улочку — Рю-де-Ренн; Кэти замолчала, но он знал, что ему дана лишь краткая передышка. Дождь кончился, было уже шесть вечера, и опустевшие улицы оживились, в этот час зрители «свободных трибун» шли домой досматривать события по телевизору.
— Ты и не спросишь, изменила я тебе или не изменила, — сказала Кэти вдруг.
— Эти слова напрасны, Кэти. Все равно ты меня ими не раскипятишь.
— А ты бы спросил, — настаивала Кэти. — Ты спроси.
— Если изменила — все равно не скажешь. Для чего и спрашивать.
— И это вся твоя гневная реакция?
— «Пусть каждую ночь проводишь ты на ложе с любимой, — процитировал Мак-Грегор по-персидски, — но если она замыкает свой сад от тебя, то неминуемо роза увянет и от страсти останутся лишь черепки, как от разбитого кувшина».
— Как можешь ты говорить мне эти страшные слова?
— Однако в них правда. Ведь ты теперь не желаешь, даже чтобы я коснулся тебя.
— Что ты можешь знать о моих желаниях? Ты и не заговариваешь больше со мной об этом.
— А лишь заговорю, ты меня тут же уничтожаешь насмешкой. И если бывает редкий миг, когда тебя тянет к ласке, то и ласка ведь уже не помогает.
— Черт возьми!.. — сказала Кэти. — Прямо не верится. После двадцати трех лет супружества у моего стеснительного мужа наконец-то развязался язык. Я делаю немалые успехи!
— Что верно, то верно.
— Поймешь ли ты когда-нибудь, что я не могу иначе, — сказала она, и в голосе ее послышались слезы. — Я прямо всей кожей ненавижу тебя иногда. Это ты… из-за тебя…
— Я понимаю все. И сожалею, — сказал Мак-Грегор. — Но зачем ты колешь меня, дразнишь всякими ги мозелями?
— Затем, что есть срок и предел всему, даже супружеству. И ты заходишь за этот предел. Я хочу, чтобы ты осознал это. Пойми же, наконец.
Они почти подошли уже к дому, и у ворот спор полагалось прекратить — по издавна укоренившейся привычке прятать ссору от детей и от прислуги-персиянки.
— Пойми, что ты нуждаешься в помощи, во встряске, — сказала Кэти. — И до тех пор пока ты не вспомнишь о себе, я так и буду злить тебя и выводить из равновесия. Со мной ли, без меня ли, но ты нуждаешься в помощи…
— Не в этом смысле.
— И даже в сексуальном смысле не нуждаешься?
— Я совершенно нормален.
— Значит, во всем я виновата.
— Да, Кэти. Ты хочешь того, чего я не могу тебе дать. И не смогу, пока ты такая.
Входя в ворота, она проговорила сквозь опять подступившие слезы:
— Ненавижу это холодное, скрытное, странное, упрямое твое нутро. Ненавижу просто… Ненавижу.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Под гул обуревавших Францию раздоров Кюмон встретился с Мак-Грегором на Пийе-Виль, в одной из богатых и стерильных комнат банкирской конторы Мозеля. Кюмон извинился, что не смог тогда принять Мак-Грегора в министерстве.
— Но ситуация успела уже сильно измениться со времени нашей последней встречи, — сказал Кюмон.
— Поэтому я и хотел, чтобы вы меня выслушали, — ответил Мак-Грегор.
— Я уже говорил со Шраммом. Так что теперь я осведомлен гораздо полнее, чем прежде. Шрамм убежден, что ваш курдский Комитет не представляет собой реальной силы.
— Сведения Шрамма могут быть ошибочны.
— Естественно, могут, — согласился Кюмон.
— У Шрамма не было возможности судить, является ли Комитет реальной силой в Курдистане. Он оценивал вещи лишь с точки зрения солдата, и к тому же при крайне тяжело сложившихся обстоятельствах.
Мак-Грегор был разгорячен, Кюмон же потягивал апельсиновый сок, по-стариковски терпеливо обводя взглядом стену, стол, бокал с соком, свои изящные желтые пальцы.