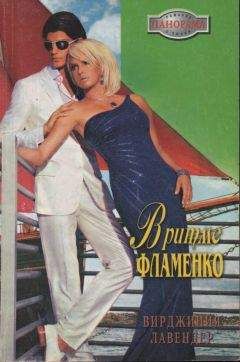Феликс Розинер - Некто Финкельмайер
Не то услыхали Пребылова, или его хватились дружки, не то публика решила идти по домам, но начали дергать дверь уже и изнутри. Привидением крутилась, прыгала фанерная лопата…
XXФинкельмайер и Леопольд прощались последними. Когда Никольский помог Леопольду натянуть пальтишко, тот взял Верину руку и задержал ее в своих ладонях.
— Все же я решился вам сказать. Я сопровождал скульптуру, когда ее везли из Крыма для Цветаевского музея. В музей она не попала из-за революции, а осталась в доме одного приват-доцента истории Московского университета. Я часто у него бывал. Однажды я шел по Воздвиженке мимо толпы митингующих. Перед ними со страстностью, свойственной тому времени, говорила девушка. Я поразился ее необычайному сходству со знакомой мне скульптурой. Не помню, о чем она говорила. О чем все. После этих речей я проводил ее, а позже уговорил посетить квартиру приват-доцента. Не следует, наверное, пояснять, что я влюбился, как мальчишка. Я и был мальчишкой. Н-нуте-сс, милая, тогда я был дружен с вашим отцом, близко дружен, по старой моде. И вот там-то, около этой вашей скульптуры произошло второе романтическое знакомство — ваших будущих родителей. Откровенно говоря, я и тогда разумом хорошо понимал, что — я и Елена — мы слишком разные натуры. Этот дом я видел еще в начальной стадии строительства, Дмитрий со мной советовался кое о чем. Но после всего происшедшего я здесь не бывал. Я вообще никогда их не видел потом. Не знал, что скульптура оказалась у них, в этом доме. Это было для меня приятной неожиданностью. А знакомство с вами мне особенно приятно, и я, признаться, расчувствовался. Видите ли, история о женщине и о мастере пришла мне на ум еще в Керчи, когда я впервые увидел скульптуру. И я ее однажды рассказывал Елене. Но что доведется рассказывать ее дочери… — Леопольд устало улыбнулся. — Простите, что разволновал вас. Простите, не обижайтесь на старика.
— Боже мой!.. Боже мой, — повторяла Вера. — Но мы же увидимся с вами?
— Буду рад, милая, буду рад. Спасибо. Спокойной ночи.
Двери закрылись. Никольский щелкнул замком и отправился наверх, чтобы положить в портфель верстку, оставленную ему Ароном. На дне портфеля рука утонула в чем-то мягком. Это были соболиные шкурки — те самые четыре шкурки из манакинского подношения. Забытые, они лежали в портфеле с момента приезда.
— Вера! — крикнул Никольский. — Иди сюда, смотри, что я тебе привез!
Он отдал ей соболей, но вдоволь нарадоваться на них у Веры уже не хватило сил. Когда легли, последней всплыла в сознании Никольского мысль о том, что любовь у них была днем, и теперь можно сразу же спать.
XXIЭтот вечер в Прибежище имел немало последствий. Во-первых, произошел полный разрыв с кандидатами: воинственно настроенная кандидат-жена уже на следующий день явилась к Вере, потребовав объяснений, почему так некрасиво, так по-хулигански! поступили с их другом, который не кто-нибудь, а поэт! и хотя он недавно из провинции, но принят в Москве, в Союзе писателей как настоящий! как очень талантливый! самобытный! и безобразие, допущенное по отношению к Пребылову, они считают личным оскорблением! В противоположность обычному, Вера была непримирима: «Ну и черт с вами и с вашим Пребыловым! — отрезала она. — И нечего больше ко мне ходить. И не звоните, понятно?» Во-вторых, произошло и тоже закончилось разрывом объяснение со Славиком. Он долго болтал по телефону вокруг да около, но потом перешел к инциденту с Пребыловым и спросил, что за ископаемое тот длинный придурок, с которым весь вечер возился «твой нынешний кадрик». Такой пренебрежительно свойский тон — опять-таки в противоположность обычному — мгновенно вывел Веру из себя. Она ответила Славику, что помнит все его гнусности, и с нее хватит. Далее было сказано, что если он вздумает снова осчастливить ее своим звонком, то она позвонит Славику домой, его жене, и многое ей расскажет. «Ты взбесилась?» — растерянно начал Славик, но Вера бросила трубку. В-третьих, в-четвертых, и далее, — в течение ближайших нескольких недель последовало выяснение отношений с теми из круга знакомых, кто были связаны с кандидатами или со Славиком. Вера повела себя бескомпромиссно: достаточно было кому-либо сказать хоть слово в оправдание отлученных, как она отказывала от дома и защитнику: «Я сказала больше не звонить? Ну и все!» — звучало в ответ на попытку объясниться, и грохот подпрыгнувшей на рычагах трубки отмечал очередное крушение былой дружбы.
Никольский изумлялся и откровенно злорадствовал. «Давай, давай, гони их в шею!» — всякий раз поддерживал он Веру в ее решительных действиях. При этом у него хватало благоразумия умалчивать о том, что ему, да и ей тоже, было и раньше известно: что шваль и шушеру следовало гнать подальше уже давно.
За всеми этими переменами стоял Леопольд. С его появлением Прибежище обрело атмосферу иную: повеяло в доме теплом общения тех, кто такого общения жаждал. Под взглядом Леопольда, под усмешкой его, при его словах и при его молчании снобы, трепачи, любители между красивыми разговорами начинать ухаживания стушевывались мгновенно, проводили в неловкости час-другой и исчезали. Оставались те, кому не трудно и радостно было найти в своем нутре прибитый, чахлый росточек, вот-вот готовый и вовсе погибнуть среди вранья, примитива и грубости обыденной всеобщей жизни, — найти росточек и почувствовать, как приподнял он головку, повернул ее на тепло и на свет и потянулся — к человеку потянулся. Леопольд безвластно и безнасильно притягивал к себе: дальний магнитный полюс, который лежит где-то за тридевять земель, вот так же медлительно — осторожно разворачивает детскую забаву — иголочку с пробкой на блюдце с водой — если есть в иголочке этой чуть-чуть магнетизма. Так и забавы Прибежища становились от раза к разу серьезнее, так и в них проявилось общее направление, и уж не развлекать, не развлекаться и «кадриться» шли сюда, а шли уже, — не осознавая того разумом, а как будто одним лишь слухом ушей своих и видением глаз, да еще самим свободным дыханием в свежем воздухе — шли возвыситься, очиститься от скверны, которую слышали, наблюдали и частью которой были сами. Этих людей и раньше тянуло в Прибежище смутным предвосхищением, что найдут они тут спасение от суеты сует, заполнявшей всех и вся; сама Вера обольщалась, что ее открытый дом и разговоры об искусстве в небанальном интерьере старой комнаты будут ей светом и забвением. Но шло все не так, не туда, все обрастало пошлостью, а искренности, простодушия, по которым томились, отыскать в себе и укрепить не умели: за что уцепиться, чтобы лезть из болотца? Не было ничего прочного вокруг, не было и человека рядом, который бы твердо на твердом же и стоял.
Оказалось вдруг так, что все они — Вера, Никольский, Хавкин, молоденький Толик — словом, «свои» — были здесь в Прибежище лишь гостями, задержавшимися посетителями, как если бы приехали в средневековый замок экскурсанты, и им там понравилось, и потому они решили пока что не уезжать. Леопольд же не только и в прошлом был связан с Прибежищем, не только стал тоже «своим» теперь: он выглядел среди этого дома естественно, слитно с ним и необходимо в той же степени, в какой был неотделим от своей одежды — берета, серенького джемпера и помятой бабочки.
Вера отыскала стенограммы лекций Леопольда и предложила заняться их обработкой. Леопольд согласился больше из вежливости — свои уже однажды высказанные мысли его мало интересовали. Но когда Вера подала ему перепечатанную расшифровку первой лекции, он принялся комментировать старый текст, увлекся, а Вера, не растерявшись, сообразила записать все, о чем он говорил. Получились две вариации на одну и ту же тему — как оказалось, противоположные до парадокса, но каждая логически-стройная и подкрепленная серьезными аргументами. Со следующей лекцией произошло то же самое: собственные же прежние блестящие построения Леопольд разбивал не менее блестящей импровизацией. И так он, беря в руки очередной, приготовленный Верой старый текст, всякий раз подвергал его содержание острым словесным атакам, сказалось бы, несокрушимые бастионы фактов и доказательств начинали рушиться, а Леопольд с нескрываемым удовольствием, усмехаясь и прищуривая веки, возводил на развалинах новые крепости. Хотя в глазах профанов это могло сойти лишь за эффектную демонстрацию обширных знаний эрудита, Леопольд, в сущности, доказывал совсем иное — свое нежелание, вернее, свою внутреннюю неспособность следовать чему-то определенному, остановившемуся и ставшему неоспоримо верным во всем том, что касалось творчества и искусства, и, более того, — жизни рода человеческого и жизни одного человека, например, своей собственной жизни. По крайней мере, так Леопольда объяснял себе Никольский, который сперва сам прочитал первые из вариаций, а потом попросил Веру узнать при случае, не помешает ли он, если будет присутствовать во время их работы над лекциями. Леопольд ничуть не возражал и даже признался в своей, как он выразился, слабости: вероятно, сказал он, я не чужд тщеславия, так как аудитория активизирует мой тонус… Это было принято за разрешение приглашать и других.