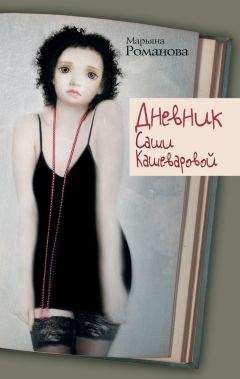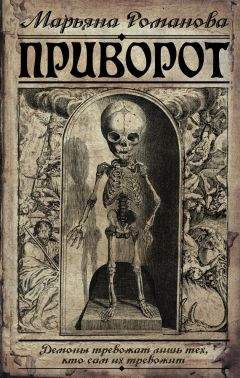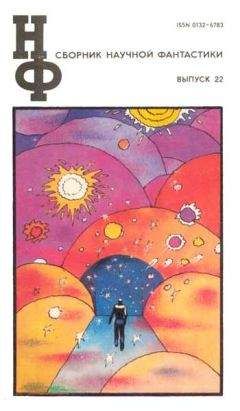Марьяна Романова - Солнце в рукаве
В сущности, Надя всегда мечтала о малом. Другие о таком и не задумывались, считая это не заслуживающими концентрации буднями.
Она мечтала, чтобы мама была рядом, а бабушка была мягче и не претендовала бы на роль генералиссимуса Надиной жизни.
Но мама всегда ускользала, а бабушка затягивала узлы. Мама была как солнечный зайчик – веселая, но неуловимая. За ней хотелось бегать, подпрыгивая. А потом сжать, теплого, трепещущего, в ладони. Бабушка была как шаровая молния – могучая, непредсказуемая и равнодушная. От нее хотелось спрятаться под кроватью.
Снег за окном был густым. Хлопья воздушного риса.
Все, в сущности, получилось, как Надя и мечтала, только реальность добавила в придуманную идиллию несколько фатальных огрубляющих мазков.
Мама рядом. У нее больше нет случайных любовников, ей почти пятьдесят. Она перестала интересоваться мужчинами резко, будто лампочку выключили.
Больше некому было ее украсть.
Мама была рядом – она каждый вечер звонила Наде, по средам и субботам они встречались за капучино. Она трогательно пыталась жить Надиной жизнью – расспрашивала, советовала, сочувствовала. В школе сочувствия она была бы двоечницей и второгодницей, потому что, формально сострадая, все время ухитрялась ляпнуть какую-нибудь бестактность. Зато она ждала Надиного малыша – с искренним инфантильным энтузиазмом. Покупала какие-то распашонки, зарегистрировалась на интернет-форуме молодых мам, кто-то из новых сетевых подружек отдал ей коляску, кто-то – подогреватель для бутылочек. Малыш еще не родился, а мама уже умоляла оставлять его на каждые выходные. «Можно и на половину недели. Тебе не обязательно бросать работу, доченька. У тебя есть я. Вместе мы справимся!»
Мама была рядом.
Только вот она больше не была солнечным зайчиком.
Она тяжело переживала климакс. Гормоны бушевали внутри, как осеннее почерневшее море. Мама часто плакала – вдруг ни с того ни с сего ее лицо сморщивалось, словно кто-то смял его в кулаке и отпустил. Она роняла голову на руки и плакала безутешно, как малыш, и беспричинно, как могло показаться со стороны. Но Надя смотрела на ее вздрагивающие кудряшки, пегие, жесткие, и все понимала. Мама по-прежнему спала в бигуди. Это было неудобно, она ворочалась и мучилась, и наверняка жалкие руины ее былого круга общения не заметили бы, если бы мама однажды появилась с прямыми, как солома, волосами. Но это была многолетняя привычка. Плюс дурацкое убеждение, что настоящая женщина должна быть наивной, смешливой и кудрявой.
Эти поседевшие кудри были не просто штрихом ее внешности, они были могилой всего того, что мама много лет считала смыслом жизни.
Она так и говорила, смеясь и прихлебывая дешевое шампанское: смысл жизни – получать удовольствие. А удовольствие – это свидания, непредсказуемость завтрашнего дня, тонкая талия и обнимающие ее шелка, мужчины, которые смотрят так, будто хотят сожрать.
Все вокруг говорят – в тридцать лет у женщины первый кризис, в сорок – второй. А она разве виновата, что ее миновало, не затронуло никак? И в тридцать, и в сорок, и в пятьдесят она все так же смеялась, пила дешевое шампанское и весело потряхивала обесцвеченными кудряшками, а вокруг были мужчины, готовые выкрасть ее через форточку и увезти за горизонт.
Ее подруги скучнели, разводились и снова выходили замуж, но уже за кого-нибудь посерее, поплоше. Мужья их уходили к голодным и молодым. Подруги принимали антидепрессанты, воцерковлялись, страдали бессонницей и нервной булимией, делали подтяжку век, а одна по-слоновьи плавная художница по имени Вероника купила на ночь солиста эстрадного шоу-балета.
И в два часа ночи, пока он был в ванной, позвонила Надиной маме. Исповедовалась сдавленным шепотом: у него плечи пахнут ванилью и солью, а на животе у него родинка, похожая на муху, а когда он кончает, говорит «ахххх», и это финальное «хххх» сначала звучит как гром вдалеке, а потом как лениво утихающий ветер. Вероника говорила так вдохновенно, что на какое-то мгновение Надина мама задумалась: а может быть, и ей выписать на ночь Аполлона с родинкой-мухой?
Но наступило утро, балерун, сверившись с часами, начал одеваться, а уходя, намекнул на чаевые. Вероника проводила его, а потом залпом выпила полбутылки вишневого ликера, написала маркером на холодильнике: «Жизнь кончена» и повесилась на поясе от банного халата.
Хорошо, что люстра не выдержала ее килограммов. Испуганная Вероника доползла до телефона и сумела вызвать «скорую». Ее увезли – хрипящую, плачущую, жалкую. Пришлось дать взятку врачам, чтобы не ставили на учет в психиатрию. Она вернулась домой через три дня – с синяком на шее. Неубранная кровать пахла высокоградусным потом молодого греческого бога, а на холодильнике темнел лозунг «Жизнь кончена!». Вероника купила тур в Абу-Даби, вызвала домработницу и улетела зализывать раны.
Надиной маме не были знакомы такие трагедии. И в сорок пять вокруг нее увивались мужчины – причем не уцененные модели позапрошлогоднего сезона, а те, на которых на улице оборачивались. И пусть многие из них были женаты, и пусть ни один не выразил желания забрать ее навсегда, сделать частью своей жизни.
Разве это так важно, если живешь в сердце карнавала?
«Мой удел – серийная моногамия», – любила говорить она.
Подруги завидовали ее легкости, стрекозиной ее натуре. И зависть эта тоже была своеобразной гарантией, что все она делает правильно.
Жила как цыганка, словно боялась корнями врасти в кого-нибудь. Выкорчевывала из своей жизни людей, как созревшую картошку. И казалось, что так будет всегда.
Но однажды – ей было уже сорок девять – она отдыхала в октябрьской остывающей Ялте, наслаждаясь спокойным морем, желтеющими горами и свежим гранатовым соком. И вдруг ее пронзила страшная мысль: золотая осень потому так и притягательна, что длится всего несколько мгновений. Самое хрупкое время года. За романтичным остыванием последуют гниение и слякоть. Шуршащее золото под ногами станет склизким и бурым, а потом и вовсе наступит вечная мерзлота.
В тот вечер она не пошла, по обыкновению, на набережную. Сидела на балконе своего номера, кутаясь в овечий плед, смотрела на море и плакала.
А еще в ту осень она купила последнюю в своей жизни упаковку тампонов.
Впору было писать на холодильнике: «Жизнь кончена!», потому что впереди была вечная мерзлота.
Однажды Надя вытащила маму на субботнюю прогулку. Погода была идеальной для того, чтобы идти рядом, прихлебывая кофе из бумажных стаканчиков, болтать и лениво отмечать взглядом пуговицы на лоскутном платье города. Вот девушка в черном вдовьем платье и шляпке с вуалью медленно идет по бульвару, наслаждается вниманием прохожих и старается играть чуть ли не мадам Бовари, для которой у нее слишком мало опыта и слишком много румянца на юных щечках. Смешная, смешная, милая. Надя с юности испытывала нежность к неформалам всех мастей – к тем, чей вызов миру был так инфантилен, театрален, безобиден и ярок. Вот пряничная пожилая пара – на старичке светлый сюртук, а старушка – в многослойных бусах из индийского аметиста. Он поддерживает ее за локоть, и с одинаковой вероятностью они могли прожить вместе жизнь или познакомиться позавчера в каком-нибудь клубе любителей Блока. Такое в Москве встречается. И вторая версия казалась Наде более романтичной, чем первая, потому что давала надежду, что старость, о которой она иногда с еле заметным волнением задумывалась, не так уж суха и неплодородна. Особенно если у тебя есть Интернет и такие вот бусы. А вот из темной арки потянуло чем-то пряным и сладким – кто-то спрятался в дворике, чтобы выкурить косячок, а дым вырвался на волю, рассказывая всему миру о происходящем.