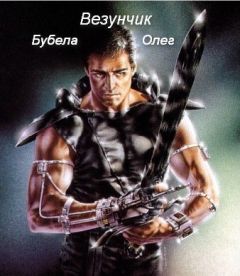Олег Рой - Капкан супружеской свободы
Он посмотрел на меня со странным любопытством. Потом кивнул и сказал:
— Да, я понимаю, ты давно уже считаешь меня способным на все. Даже на то, чтобы бросить на произвол судьбы, отдать под скорый и неправедный суд близкого тебе человека. Не так ли, Наташа?
На мгновение мне сделалось стыдно — ведь это же мой муж, мой Николай! Разве вправе я подозревать его в подобных грехах?! Но я быстро отбросила в сторону ненужную сейчас сентиментальность. Речь шла о моей лучшей подруге, о ее собственной жизни и жизни ее крохотной дочери.
— Ты хоть понимаешь, что у нее никого нет, кроме нас? Кто ей теперь поможет, если не мы?
— Ну, положим, отец-то у нее остался, — задумчиво протянул Родионов. — А кстати об отце: я слышал, что старик Лопухин сделал чуть ли не блестящую и весьма неожиданную революционную карьеру, лечит больших людей в нашей партии… Что ни говори, а хорошие врачи нужны всегда и при всех режимах. Ну-ка пойдем поговорим с ней.
Мы вернулись к Анне, и, подсев к ней поближе, муж произнес уже более приветливым, потеплевшим тоном:
— Ничего не бойся, теперь все самое страшное у тебя позади. Вернешься с нами в Москву, встретишься с отцом и забудешь все, что было, как страшный сон… Ты ведь знаешь, где он сейчас служит?
— Я слышала, что по-прежнему в больнице, в Москве. Ему удалось вылечить кого-то из ваших комиссаров, и он писал в Оскол, что у него все складывается хорошо и мы не должны за него волноваться… Может быть, он просто успокаивал меня?
— Нет-нет, — покачал головой Николай, — по моим сведениям, это все чистая правда. Ну и прекрасно. Если кто будет интересоваться твоим появлением у нас — скажешь, что так и было запланировано, что тебя с дочерью должны были переправить нашим поездом с неспокойного юга в Москву, к отцу, работающему на большевиков. В детали не вдавайся, они необязательны. И утри, ради бога, слезы. — В его голосе появилось хорошо знакомое мне раздражение. Анна, почувствовав это так же быстро, как и я, испуганно вскинула голову, а Николай веско и жестко закончил: — И не вздумай строить из себя безутешную вдову, поняла? Никто не должен знать о твоей связи с расстрелянным недавно деникинцем. Никто не должен подозревать в тебе жену белого офицера. Иначе это может плохо кончиться для всех нас.
Слезы вновь закапали из ее глаз, она кивнула, молча глотая их, и Николай поднялся и вышел из купе, бросив напоследок на меня предостерегающий взгляд. Шуршание его мрачной кожанки почему-то отдалось в моих ушах громом, у меня вдруг закружилась голова, и удаляющаяся темная фигура показалась мне странной, трагической тенью от гигантского воронова крыла…
Тогда-то Анна, глядя моему мужу вслед, и произнесла ту самую фразу, которую я потом услышала от нее ночью, в полусне-полубреду, под дробный стук колес поезда:
— Господи, Наташа, что же это? Что вы наделали, что сделали с нами? Зачем, за что?!
Кругом лежали боль и разруха, обман и нищета, густо перемешанные с лучшими упованиями, благородными помыслами и несбывшимися надеждами, а поезд мчался сквозь потерявшую разум страну, как летучий голландец по бурному, вздыбленному, утратившему привычный ритм существования житейскому морю. Но, сидя перед подругой, которую спасал теперь мой муж, чьи соратники только что расстреляли ее собственного мужа, — сидя перед Анной и глядя ей прямо в лицо, я ничего не могла ответить ей. Ничего, кроме одного:
— Все будет хорошо, родная. Теперь все будет хорошо. Мы отвезем тебя к отцу, вы будете жить вместе; ты сможешь дать Олечке хорошее образование. У нее будет настоящая семья — мать и дед, два поколения, которые станут любить ее. У моей Аси ничего этого не будет. Только родители, и — никого, никого позади… Никого, кто мог бы рассказать ей о фамилии Соколовских, которую она будет носить, о том, как была девочкой я сама, и о наших милых, старых Сокольниках…
— Ты что-нибудь знаешь о Кирилле Владимировиче и Елене Станиславовне? — жадно глядя мне в лицо, перебила Аня. — У тебя есть о них хоть какие-нибудь сведения? Если б ты знала, как часто я вспоминаю ваш дом, ваши чудесные вечера и звуки рояля в гостиной!.. Это было такое счастье, Наташа! Настоящее, чистое, ничем не замутненное…
— Ничего не знаю, ничего не слышала, — ровным голосом ответила я. Эта ровность давалась мне с большим трудом, но я не хотела сейчас выказывать своих чувств. — Ты ведь знаешь, мы давно расстались с ними! Они не приняли Николая, а я не смогла принять их снобизма, их презрения к революции.
Собственные безжалостные, несправедливые слова резанули мне сердце, но я, не останавливаясь, быстро закончила:
— Я потеряла их из виду, как только окунулась в Москве в настоящую жизнь, закружилась в вихре революционных идей и революционной борьбы…
Подруга бросила на меня недоверчивый, почти скептический взгляд, и я уже в запальчивости выкрикнула, торопясь свернуть болезненную для меня тему:
— Да и им наверняка не было дела до их непутевой дочери, которая посмела отречься от высоких идеалов рода Соколовских. Знаю только, что они уехали в Париж, как и собирались. Надеюсь, им удалось перед отъездом перевести капиталы за границу — отец начал заниматься этим еще в шестнадцатом году, — и, следовательно, теперь они ни в чем не испытывают недостатка.
— Не удалось, — так же быстро, как и я, проговорила Анна, отводя в сторону уставшие глаза.
— Что? — переспросила я, решив, что ослышалась.
— Ты действительно ничего не знаешь, Наташа. Позволь, я расскажу тебе, как все было на самом деле. Кирилл Владимирович долго разыскивал тебя, разузнавал стороной о ваших поездках с Николаем по разным губерниям, обо всех его арестах, делах и партийных кличках. Он ни за что не хотел уезжать из России без своей «непутевой дочери», как ты теперь говоришь, и — потерял, упустил драгоценное время. Они бежали уже из Крыма, на одном их эмигрантских кораблей. — Она впервые с начала своего рассказа взглянула на меня и безжалостно закончила: — Митя умер на том корабле. Он был ранен, и Елена Станиславовна не сумела выходить его.
— Ты не можешь знать этого, — в ужасе пробормотала я, цепляясь взглядом за Анин потухший взгляд, как за свою последнюю надежду. — Никто ничего не знает сейчас наверняка… Откуда тебе все это может быть известно?
— Мне писал отец, а он следил за судьбой своих друзей куда пристальней, чем ты — за судьбой собственных родителей, — тихо и равнодушно ответила Анна. Она была так переполнена собственным горем, что бедствия и печали других казались ей совершенно естественными. Наверное, она сочувствовала мне и конечно же жалела о Мите. Но после того как она увидела на снегу вздрагивающее в предсмертных корчах тело мужа, все прочие страдания мира перестали значить для нее что бы то ни было. Может быть, поэтому она сразу добавила, нисколько не усомнившись в том, что я способна выдержать еще одну порцию правды: