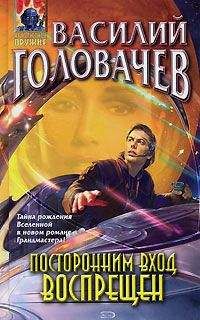Евгений Водолазкин - Похищение Европы
Пытаясь описывать последовавшие события, я чувствую себя то литератором, то историком, хотя не имею опыта ни в одном из этих занятий. Противопоставление историка и литератора — не мое, оно навеяно беседами с N, о котором я не теряю надежды в свое время тоже рассказать. Посредством такого противопоставления я пытаюсь лишь оправдать свой собственный текст, лежащий где-то между этими двумя полюсами.
Принято считать, что, в отличие от литератора, историк имеет дело с реальностью. Это преувеличение. Выстраиваемые историком причинно-следственные цепочки обязаны работе воображения примерно в той же степени, что и события исторического романа. Если даже допустить, что упоминаемые историком факты соответствуют действительности, бросается в глаза зияющее отсутствие множества промежуточных звеньев, без которых вся выстроенная конструкция погружается в область вымысла. Неполное знание порой хуже полного незнания: оно вводит в заблуждение.
Разумеется, можно возразить, что, в отличие от изящной словесности, история является наукой и что уже в силу этого к ее утверждениям следует относиться с особым вниманием. Вопрос только в том, в какой степени история является наукой. Рассуждения историков их не ко многому обязывают, потому что не подлежат проверке. История не располагает таким важным научным методом, как эксперимент, ее факты безнадежно единичны, никогда не повторяются (о каких законах истории может идти в таком случае речь?) и зачастую добыты весьма сомнительным путем. При всем уважении к истории, не стоит, вероятно, приписывать ей тех качеств, которых она не имеет, а главное — путать ее с прошлым. История-это всего лишь то, что мы думаем по поводу прошлого.
Подобно тому как реальности противопоставлен вымысел, в бытовом сознании истории противопоставлена литература. Эта поверхностная и несколько обидная для литературы точка зрения отражает не только недооценку роли вымысла в истории. Равным образом она свидетельствует о недооценке реального в литературе. Весь вымысел литературы только в том и состоит, что реальное дано, так сказать, особой нарезкой и без чрезмерных претензий на истинность. И исторический, и художественный тексты состоят из элементов того, что принято называть объективной реальностью, и в обоих случаях эти элементы связываются фантазией повествователя.
Реальность многих из описываемых мной событий не изменилась бы, даже если бы меня на самом деле не существовало и мое Ich-Erzählung[11] было бы чистой фикцией. Остались бы Дом, Мюнхен, натовские бомбардировки, да мало ли еще что. А главное — осталась бы та сфера объективной реальности, которую упорно не замечает историк, но которая представляет первый и самый непосредственный исторический план. Эта сфера связана со своим временем такой крепкой пуповиной, что в час ухода своей эпохи преданно удаляется вместе с ней. Именно она, определявшая свое время, становится первой жертвой забвения. Историк никогда не опишет глухого стука копыт по засыпанной листьями дороге, он ни словом не упомянет о том, что запах сена и рассохшейся древесины составляют суть поездки на телеге летним днем, подобно тому, как звук падающего на мостовую булыжника составляет суть революции. Мы не знаем теперь, как в точности он падал. Мы не знаем и того, как пахло в приемной морского департамента, как кричали петухи в ближних пригородах, — а ведь это и было тем камертоном истории, без которого никогда не понять ее истинной тональности. Здесь вся надежда — на литературу. То, что представляется столь важным для истории, литература видит лишь боковым зрением. Взор ее устремлен на те события или явления, которые история опрометчиво считает незначительными. Литература — это история незначительных событий.
Итак, на определенном отрезке моей жизни события повседневные соединились с историческими. Точнее говоря, и те, и другие стали вдруг менять свое качество и обращаться в собственную противоположность. Эта странная диалектика возникает в тот момент, когда человека выносит на гребень исторической волны (за этой метафорой я всегда вижу скольжение на серфинге — столь же захватывающее, сколь небезопасное). Мировая история становится его личной повседневностью и, наоборот, события его частной жизни приобретают исторический характер. Как выразились бы авторы минувшего века, в такие времена реальность начинает казаться сном. И это касалось не только одного меня.
В то необычное время граница между реальным и нереальным была проходима в обе стороны. Своего пика это явление достигло незадолго до Косовской войны. Простодушный ковбой и ценитель женщин, игравший в свободное время на саксофоне, взвалил на себя нелегкое бремя творить историю. Цельность его образа была почти литературной. Он мог показаться мистификацией, писательским вымыслом, персонажем эротического романа, всем, чем угодно, кроме одного: того, чем он был. Он был американским президентом.
Но этим загадки эпохи не ограничивались. Не менее примечательной личностью был его русский коллега, подорвавший здоровье неумеренным потреблением алкоголя. Большую часть времени он проводил в одной из московских клиник (наши газеты называли его русским пациентом) и давал оттуда указания тихим голосом.
Подробности сигарного скандала, наряду с медицинскими сводками из Москвы, украшали первые полосы газет. Благодаря обильно поступавшей информации широкие слои населения — от учеников младших классов до близких мне обитателей домов престарелых — могли вынести квалифицированное суждение как об оральном сексе, так и о последствиях коронарного шунтирования.
В отличие от спокойно лежавшего русского президента, американский метался в поисках выхода. Начинали раздаваться опасения, что в результате пережитых волнений американцу суждено повторить клинический путь русского коллеги. К началу войны обе стороны неожиданно выказали намерение поменяться ролями. Прежде жизнерадостный американский президент находился на пределе нервного истощения, в то время как его недужный русский коллега почувствовал себя чуть бодрее. Впрочем, полная симметрия вряд ли была здесь возможна: несмотря на подаваемые признаки жизни, оральный секс для русского президента полностью исключался. В этом отношении мировая общественность была за него спокойна.
Когда исторические события начинают напоминать вымысел, неброская фикциональность моего Ich-Erzählung не выглядит столь уж вызывающей. В какой-то степени она нейтрализует водевильную окраску действительности, напоминая о невыдуманной драме, которая разыгрывалась тогда. Фантастичность происходившего требует некоторой компенсации, если угодно, реальности, которую способна привнести только литература.