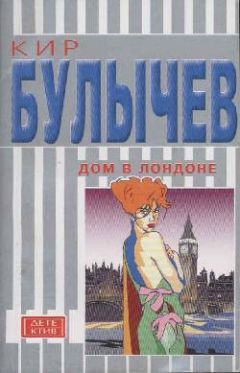Тони Моррисон - Возлюбленная
Она поставила опару для теста и подумала, что хорошо бы пригласить еще Джона и Эллу, потому что трех, а может, и четырех пирогов для одной семьи многовато. Сэти решила, что неплохо добавить еще и парочку цыплят. А Штамп заявил, что окуней и зубаток в реке столько, что сами в лодку запрыгивают – не надо и леску забрасывать.
И вот, началось с того, что у маленькой Денвер загорелись глазки, а кончилось настоящим пиром для девяноста человек Их громкие голоса в доме номер 124 не стихали до поздней ночи. Гости ели с таким отменным аппетитом и так много смеялись, что под конец рассердились. На следующее утро, проснувшись, они припомнили вкус копченых окуней, которых Штамп приготовил на можжевеловых палочках, причем каждую рыбину коптил над костром отдельно, прикрывая левой рукой, чтобы не плевалась во все стороны жиром; припомнили замечательный кукурузный пудинг со сливками; припомнили своих усталых объевшихся детей, что уснули прямо на траве, зажав в руках обглоданные косточки жареного кролика, – припомнили они это, и обуял их гнев.
Три или четыре пирога, испеченные Бэби Сагз, превратились в десять, а то и двенадцать. Две курицы, зажаренные Сэти, стали пятью индюшками. Один– единственный куб льда, привезенный из Цинциннати – который вместе с арбузным соком, сахаром и мятой был использован для приготовления прохладительного напитка, – превратился в целый вагон мороженого и корыто клубники. И то, что дом номер 124 всю ночь сотрясался от смеха и веселья угостившихся на славу девяноста человек, разозлило их еще больше. Слишком у них всего много, думали они. Где она все это берет, наша Бэби Сагз, святая? Да и кто она такая, в конце концов? И почему она сама и ее семейство вечно в центре внимания? Откуда она так хорошо знает, что, как и когда нужно делать? Зачем всем дает советы, передает послания, лечит больных, прячет беглых, зачем любит людей, готовит для них еду, молится за них да еще поет для них и танцует – словно это ее право и долг, словно любить людей дозволено только ей одной?
А тут – целых два ведра ежевики, из которых она напекла не то десять, не то двенадцать пирогов, да индюшатины чуть не на целый город нажарила, а к ней свежий зеленый горошек, – это в сентябре-то! – и сливки у нее свежайшие, хотя своей коровы нет и в помине, да еще лед и сахар, сливочное масло и хлебный пудинг, дрожжевой хлеб, лепешки – такое изобилие сводило их с ума. Если Он накормил великое множество людей хлебами и рыбами, так то Господь – не какая-то там бывшая рабыня, которой, может, никогда и не приходилось тяжко трудиться и таскать стофунтовые мешки к весам или весь день собирать стручки окры с ребенком, привязанным за спиной. Ее небось никогда не бил кнутом десятилетний белый мальчишка! А им-то, господи, сколько досталось. И ведь ей даже бежать не пришлось – ее, видите ли, выкупил любящий сынок и довез до берега Огайо в повозке; и бумаги об освобождении лежали у нее между грудями, а привез ее сюда тот белый, что раньше был ее хозяином; он же и заплатил за нее налог – Гарнер была его фамилия. А потом она сняла дом в целых два этажа, да еще с колодцем, у Бодуинов – у этих белых брата и сестры, которые всегда давали Штампу, Элле и Джону одежду, продукты и деньги для беглых негров, потому что ненавидели рабство куда сильнее, чем чернокожих рабов.
Вспомнив все это, они прямо-таки взбесились. Глотали питьевую соду наутро после пира, чтобы успокоить бунтующие после щедрого угощения желудки, и злились на ту беспечную щедрость, что словно была выставлена напоказ в доме номер 124. И шептались друг с другом по дворам о жирных крысах-богатеях, о Страшном суде и неуемной гордыне.
Тяжелый запах людского неодобрения повис в воздухе. Бэби Сагз проснулась от этого запаха и все думала, с чего бы это, пока варила мамалыгу для своих внучат. Позже, стоя в огороде и рыхля землю на грядке с перцем, она почуяла его снова, подняла голову и огляделась. У нее за спиной, чуть левее, сидела на корточках Сэти, трудившаяся над бобами. Плечи ее под платьем были прикрыты смазанной жиром фланелевой тряпкой, чтобы скорее подживала спина. Рядом с ней в большой корзине лежала трехнедельная малышка. Бэби Сагз, святая, посмотрела вверх. Небо было синим и ясным. Свежей зелени листвы не коснулось еще дыхание смерти. Она слышала щебет птиц и слабое журчание ручья на дальнем конце луга. Их щенок Мальчик закапывал последние косточки, которые не доел после вчерашней пирушки. Откуда-то из-за дома доносились голоса Баглера, Ховарда и ее старшей внучки, которая уже ползала. Все вроде бы на своих местах – и все-таки запах неодобрения бил в нос. Дальше, за огородными грядками, ближе к ручью, на самом солнцепеке, она посадила кукурузу. И хотя большую часть початков они уже обломали для вчерашней пирушки, кое-что там еще осталось; зреющие початки были видны ей даже с того места, где она стояла. Бэби Сагз снова согнулась с мотыгой над грядками со сладким перцем и кабачками. Осторожно, неторопливо, держа лезвие точнехонько под нужным углом, она старалась извлечь с корнями цветущую упрямую руту. Цветы она втыкала в свою старую соломенную шляпу; стебли и корни отбрасывала прочь. Тихий стук по дереву донесся до нее и напомнил, что Штамп пришел наколоть дров, как обещал вчера. Она вздохнула, продолжая работу, но мгновение спустя снова выпрямилась, ощутив острый запах неодобрения. Опершись на ручку мотыги, Бэби Сагз сосредоточилась. Она уже привыкла к мысли о том, что молиться за нее никто не станет, однако разлившаяся вокруг ненависть – это было что-то новое. Причем ненависть, исходившая не от белых – это-то она определить могла, – а наверняка от черных! И тут она наконец поняла: ее друзья и соседи сердились на нее за то, что она преступила черту – дала слишком много, обидев их своей избыточной щедростью.
Бэби закрыла глаза. Возможно, они были правы. И вдруг откуда-то издалека, из-за этой волны неодобрения до нее долетел совсем другой запах. Запах темной, опасной, движущейся сюда силы. Но что это такое, она определить не могла: мешал запах соседской злобы.
Она изо всех сил зажмурилась, пытаясь понять, что же это такое, но единственное, что пришло ей в голову, – это высокие сапоги с ушками; она всегда избегала на них смотреть.
Встревоженная, она снова взялась за мотыгу. Что же это за темная сила движется сюда? Разве в мире осталось хоть что-то, способное причинить ей боль? Может быть, это весть о смерти Халле? Нет. К ней она была готова куда лучше, чем к известию о том, что он каким-то чудом остался жив. Ее последыш, на которого она едва взглянула, когда он родился: к чему пытаться запомнить младенческие черты, если все равно никогда не увидишь, как взрослеет твой сын? Семь раз она это пробовала: брала в руки крошечную ножку, рассматривала крошечные толстенькие пальчики на руках – и никогда не видела, как эти пальчики превращаются в пальцы взрослого мужчины или женщины, которые любая мать отличит всегда. Она до сих пор не знала, сменились ли у них зубы на постоянные; перестала ли Патти шепелявить; какого цвета в конце концов стала кожа у Феймаса; осталась ли у Джонни волчья пасть или то был просто небольшой изъян, который сам собой исчезает, когда у ребенка окрепнет челюсть. Четырех девочек родила она и всех в последний раз видела тогда, когда ни у одной еще и волосики под мышками не начали пробиваться. Неужели Арделия до сих пор любит подгорелые хлебные корки? Все семеро ее детей просто исчезли из ее жизни. Может, умерли. Так имело ли смысл внимательно рассматривать этого последыша? Но его почему-то разрешили подержать на руках и оставили ей. И с тех пор он был с нею повсюду.