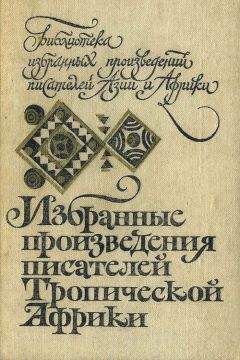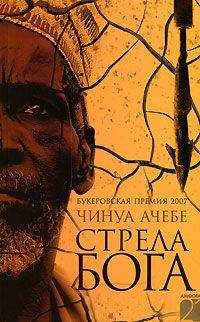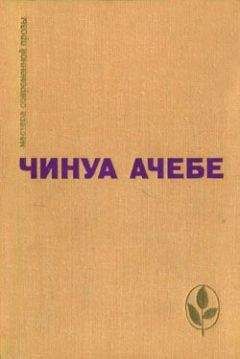Михаил Лоскутов - Тринадцатый караван
Фляжка опустилась к воде. Но поверхность ее была покрыта густой коркой, и фляжка не могла ее пробить. Шесть человек, лежа у края колодца, опускали веревку и били фляжкой о корку, кусая руки от досады. Корка не поддавалась.
Один из них кинул вниз какой-то предмет, и в дыре заблестела вода. Через минуту была выпита первая фляжка воды. Эта была густая и вонючая жижа, которую случается пить разве только один раз в жизни.
— Ничего, ребята, смотри веселее! — сказал Иван Иванович.— Сейчас мы дадим знать о себе. Наши, конечно, нашли воду и скоро придут к нам. То-то будет пир горой!
Он еще держался на ногах. Он взобрался на пригорок и стал стрелять из нагана в воздух. Но никто не откликался в барханах. Выстрелы в пустыне сухи, как треск ломаемых веток...
Первый же инженер с проводниками через два дня после того, как экспедиция разделилась у флага, нашел воду. Он послал проводников с водой и верблюдами обратно к экспедиции, но те отказались идти обратно.
Тогда инженер вынул револьвер и пригрозил расстрелять каждого, кто останется у колодца. Когда проводники ушли, он отправился напрямик через барханы к городу, но заблудился и на пятый день вернулся к флагу. Здесь уже была вода и сидели веселые люди, распевая песни.
Одного рабочего с ишаком, груженным водой, отправили вдогонку группе Боева. Но в песках прошел за эти дни большой ветер, он замел следы шести человек. Долго бился человек с ишаком и хотел уже возвращаться назад, когда услышал частые револьверные выстрелы за барханами. Это были выстрелы Боева.
Нет нужды описывать, как радовались люди, увидев ишака с водой, и как они ругались с человеком и лезли на него с кулаками, а тот неумолимо отцеживал им по маленькой порции воды.
Когда же они напились, а рабочий ушел собирать саксаул для костра, то люди, не евшие несколько суток, почувствовали, как они голодны. Поведение человека в таких случаях — очень темная кривая, которая годна разве только для исследователя. Несколько человек, приподымаясь на слабых ногах, окружили ишака: они подымались по очереди, кололи ишака ножами, но ничего не могли сделать и падали; удивленный ишак кричал и отскакивал, люди опять подымались и кололи его, ишак опять кричал. Рабочий услышал это, пришел и отогнал их прочь. Ишак был благодарен, и все вообще успокоились.
Стоит ли рассказывать, как странный караван — экспедиция людей в трусах и кальсонах, верхом на верблюдах въехала в город?
Иван Иванович, если ему случится прочитать эти строки, будет, наверно, недоволен. Я изменил его фамилию: он не любит, когда ему напоминают его роль в этой истории. Он пожмет плечами и скажет: «Что ж тут? Нужно всегда, в любых условиях, сохранять присутствие духа. Это ясно каждому ученому и коммунисту».
Островок науки
Утром мы выходим умываться на бархан. Толстый и высокий мой спутник вертит в воздухе полотенцем. Он поет песню, поправляет пенсне, хлопает себя по волосатой груди.
Мимо нас проходит ящерица геккон, задрав крючком хвост. По каким-то своим делам идут священный жук скарабей и коричневый жук, похожий на черепаху. Это египетский таракан, он отправляется на прогулку.
Здравствуйте, египетский таракан! Здравствуйте, ящерица! Вот утро, солнце, вот куст акации, вот мыло и полотенце — чудесный час стоит на гребне бархана.
Пышные сады пустыни окружают нас. Они переживают сейчас месяц цветения: благоухают кандым, селин, цветет сезен, пахнет джидой, между барханов торчат пышные свечки цистанхи. Дальше идет черт знает что — мы не знаем и не принимаем больше официальной ботаники. Она не влезает в нас. Мы называем растения собственными названиями.
— Вот трокадеро-эльдорадо,— серьезно говорит мой приятель.— Этот цветок мы назовем цветком имени Жан-Жака Руссо.
Я согласен и на трокадеро и на Руссо. Второй день мы живем в этом уединенном углу мира, и наука уже окончательно перепуталась с фантазией. Глазами я ищу точку, по которой можно ориентироваться в этом цветущем хаосе, и вижу метеорологическую будку. Все в порядке, есть еще дела людские на земле.
Здесь мы замечаем среди кустов человека. Он внизу, под барханом, в лиловых трусах, копается в песке. Мой спутник прикладывает руки ко рту, как трубу.
— Добрый день! — орет он и машет полотенцем.— Как поживают ваши арбузы? Их еще не съели суслики? Не забудьте подбросить навозцу, это хорошо для арбузов!
Молодой человек щурится от солнца. Он вытаскивает из песчаной грядки свои руки с засученными рукавами. Мы здороваемся с ним за локоть.
— Я прошу: покажите-ка нам свои грядки. Всю ночь волновались, не спали, целы ли арбузы. Нет, их не слопали? Ну, не беспокойтесь, еще съедят...
Так начинается смотр чудесам. Мы шествуем между песчаными грядками. Это кусок пустыни, взрыхленной мотыгами и утыканной палочками с надписями по-латыни.
— Хорошие растения! — толкает меня в бок приятель, показывая на палочки.— Вот уж они не требуют полива.
Молодой ученый открывает нам будущие богатства, он идет впереди, как кладовщик, и нам слышится звон связки ключей в руках. Мы наблюдаем опытный помидор; его пока еще нет, но мы ощущаем его будущее рождение в тощем зеленом стебелечке, выглядывающем из песка.
— Он обязан победить пустыню, на то он помидор. Как видите, здесь мы делаем опыт без единого полива.
— Помидор хорош с луком и перцем,— строго говорит мой приятель, подмигивая.— Помидор — царь закуски. По крайней мере — генерал-губернатор.— Он неисправим. Он хлопает ученого по плечу и машет перед ним пальцем: — Ну хорошо, профессор, сознайтесь: тайком одну-другую леечку воды подлили ночью для поощрения? Нет? Ну, то-то. А я бы обязательно полил. Вот когда ученый мир удивился бы!
Гордо, как фельдмаршалы, мы обходим шеренги арбузов, тыкв, арбузов с поливкой, арбузов без поливки. Они рапортует нам о своем здоровье и благополучии.
— Здесь доказано, что арбуз в песках требует не больше полива, чем обычно.
— Это факт или так, в научном смысле?
Мы минуем верную редиску, доказанную дыню, сомнительные кактусы.
— Ну их к свиньям! Пусть растут в Америке,— говорит приятель.— Социализм обойдется без кактусов.
И вот перед нами конец опытно-показательного мира. Нет грядок, нет редиски, домики станции скрылись за барханами. Мы погружаемся в песок, ветерок подхватывает его и несет по волнам, а волн много: они желтым сумасшедшим прибоем окружают крошечный островок науки. Их горбы идут толпами, друг за другом, стадом наступающих животных. Над затейливым рисунком песчаной ряби дрожит накаленный воздух. Три цвета царствуют вокруг: голубой — вверху, а внизу — желтый и зеленый, в вечной и страшной схватке. Здесь происходит невидимая борьба на жизнь и на смерть.
Мы задумываемся: вот он, огромный шелест пересыпающегося песка, точно шепот, доносится со всех сторон. В конце концов, он нуден и постоянен, как шум моря; бесцельная, тупая работа природы. На верхушках барханов с выветренными, обнаженными корнями прицепились кусты селина, точно погибающие в волнах ловцы. Мы знаем, что все кусты и цветы, которые мы только что видели, не посажены человеком. Они растут по всей пустыне. Но эти растения — тореадоры, суровые и мужественные бойцы. Хилые и неповоротливые растения здесь погибают, оставляя место сильным, с железной хваткой и крепким желудком. Сосущая сила саксаула достигает восьмидесяти атмосфер — вот как добывается здесь влага! Почти всем растениям природой положен отдых от работы, но здешние бодрствуют круглые сутки.
— Они хитрят. Они приспособляются,— кричит нам молодой ученый с соседнего бархана,— они маневрируют, но живут!
Он приносит нам стебель песчаной осоки, но мы знаем уже ее штучки; сейчас она цветет, но скоро, с наступлением жары, она свернется и засохнет, тогда многие подумают, что она скончалась, и пожалеют осоку. Но это анабиоз, обманная смерть; с приходом влаги осока опять развернется, осока будет жить.
— В Казахстане есть растение «Атриплекс Спиноза». Мы его называем «философ пустыни». Он имеет склонность вырастать на сыпучих песках. Как только животные разгребут пески ногами, пожрут растения, глядь — оно тут как тут, выросло на сыпучем песке. Оно хочет сказать: смотрите, всюду жизнь есть жизнь, и ее не задушит никакая пустыня.
Всюду жизнь, и мы чувствуем приближающийся час завтрака. Мы знаем: в пустыне стоит длинный стол, который сейчас ждет нас. Из камышитовых домиков собираются к нему ботаники и агрономы. Идут зоологи и физиологи. Анатом и художник уже сидят за кружками и обсуждают волнующую картину «калигонум в цвету близ разбитого участка».
Ах, длинный стол! Хорошо — стоишь ты в страшной глуши мира, далеко от городов и сел, ты свидетель стольких нечеловеческих разговоров!
— Я давно слежу за одним эфемером на поливе,— сообщает задумчиво ботаник.— Подохнет он или нет?