Анатолий Макаров - Человек с аккордеоном
До шоссе оставалось не более километра, когда в отдалении из-за осевшего стога сена показалась знакомая фигура — Разинский выглядел теперь не так уж браво: небесная нейлоновая куртка намокла и почернела, густые волосы от воды некрасиво слиплись.
— Может, захватим, — нерешительно спросил Саня, — подбросим его до станции?
— Знаешь, куда я его подброшу, — неожиданно жестко ответил Алик и выругался.
Дождь то припускал сильнее, а то вовсе переставал. И все-таки на шоссе сделалось понятно, что сегодня как-никак суббота, конец недели. Ненастье, длившееся столько времени, не смущало грибников, из райцентра и даже из областного города тянулись в деревню на краткую побывку нынешние производственники и недавние крестьяне. Время от времени они возникали на шоссе и голосовали — одни уверенно, другие с помощью маловразумительных суетливых движений, которые в итоге, вероятно, надо было расценивать как щедрые посулы. Перед каждым из голосующих Машков слегка сбавлял ход, а потом или окончательно тормозил, или же решительно набирал скорость.
— Выбирает клиентов, — с восхищением догадался Соколовский, — вот гад!
Постепенно люди, казавшиеся шоферу достойными, заполнили кузов, и ребята не в шутку подивились проницательности машковского понимания жизни — народ этот и впрямь был надежный, хозяйственный, ядреный. Из сумок и авосек торчала городская снедь — толстая колбаса в целлофане, круги сыра, консервные банки, поджаристый свежий хлеб, ну и бутылки, разумеется, с такими знакомыми жестяными крышечками. Две женщины, похожие на продавщиц из мясного отдела, с круглыми, тяжелыми, как ядра, коленками жевали бутерброды с ветчиной и обстоятельно облупливали крутые яйца. Соколовский гордо не обращал на них никакого внимания, но Гусеву было труднее.
— Не я буду, — бурчал он, — если Машкова за обедом па пол-литра не выставлю. А то где же справедливость? Ему калым, а мне сплошные душевные муки.
Саня встал и оперся грудью о кабину. От встречного ветра трудно стало дышать, но зато пахло теперь не яйцами и не колбасой, а влажным сеном, землей, листвой и хвоей. Этот запах сплошной стеной летел навстречу, от него притуплялось чувство голода, а вместе с ним и другие расчетливые земные чувства, и думалось, что вот этот полет сквозь встречный дождь, сквозь мокрые леса, по обеим сторонам дороги и полевой низкий туман и есть как раз то самое, что называется настоящей жизнью.
— Вставайте, — кричал Саня, задыхаясь от ветра, — бросьте вы на жратву смотреть, вы вокруг посмотрите, а то потом станете упрекать себя, что молодость прошла, как вода сквозь пальцы!
— Во дает! — улыбнулся Алик. — Как говорит Беренбаум, «эйфория на почве недоедания». — Но все же поднялся, намертво ухватившись здоровенной пухлой ладонью за высокий, надставленный борт. Соколовский тоже вскочил, словно чертик, выпрыгнувший из шкатулки, и сразу же, захлебываясь от ветра, запел, сам не зная почему, именно эту песню, давнюю, петую бог весть когда в пионерских лагерях, во время поездок и походов. Про то, что там, где не пройдет пехота, не промчится бронепоезд и даже не проползет танк, там непременно пролетит краснозвездная стальная птица. И вновь, как давным-давно, в почти позабытом уже детстве, от этих наивных и точных слов у них замирало сердце, и захватывало дух, и ничего на свете не жалко было, даже собственной рассекающей ветер головы.
С этой пионерской песней и ворвались они в районный тихий городок, где не было асфальтированных улиц, а были только мощеные, где золотели чудом сохранившиеся кресты бывшего монастыря и поднимались бетонные стены будущего мелькомбината.
Все обошлось быстрее, чем предполагали. Машины подогнали на станцию, к отцепленному бункеру, похожему на гигантскую стальную вазу, тяжело звякнул открытый люк, и цемент душной густой тучей осел в кузов. Осталось только разровнять его лопатами и прикрыть брезентом. Тем не менее, когда двинулись назад, никак не могли откашляться, невидимая, тончайшая пыль перехватывала горло, скрипела на зубах, свербила в носу.
— По-моему, чахотка обеспечена, — обреченно признался Соколовский, — я прямо чувствую, как у меня твердеют легкие. Это надо же, чтобы такая вредная дрянь так прекрасно называлась: «портланд-цемент»!
— А ты не упивайся словами, — яростно отплевываясь, и сипя, и свистя, сказал Алик Гусев, — ты лучше готовься морально к выгрузке. Там почище придется, грузовик-то наш, как вы заметили, не самосвал.
— Конечно, — вдруг почти обрадованно вспомнил Соколовский, — на такой работе полагаются респираторы.
— Как же, как же, — поддержал его доброжелательно Гусев, — наденут тебе респираторы на одно место. — Он растянулся на брезенте, закинув под голову мощную руку, и мечтательно уточнил: — Спецпиво за вредность действительно не помешало бы. Представляете, бочонок от колхоза в качестве премии за ударный труд. В порядке поощрения и материального стимулирования. Только ведь Отец с его принципами и молока не добьется.
Грузовик Машкова первым прибыл к месту разгрузки. Ссыпать цемент пришлось в старую глубокую силосную яму, когда они вышли из сарая, то попадали без сил прямо под дождь, на мокрую траву и лежали так минут двадцать, тяжело и прерывисто дыша, как рыбы, выброшенные на песок, и ловя губами дождевые капли. Потом поднялись, добрели до колодца и умылись мучительно холодной водой, от которой немели пальцы и щеки.
— Может, все-таки молока? — хрипло опросил Соколовский, протирая воспаленные глаза с белыми от цемента, как у альбиноса, ресницами.
— Ни хрена, — отрезал Алик, — только пива, а то у меня уже не только легкие, у меня уже печень затвердела.
Столовая, в которой надеялись подлечиться, находилась неподалеку от картонной фабрики. По дороге они встретили второй грузовик с цементом и жестами объяснили ребятам, где их искать: Алик простертой ладонью показал направление, а потом обхватом двух рук изобразил пивной бочонок.
В помещении стоял ровный гул, от тарелок поднимался пар, богатыри на картине, висевшей в простенке между окон, напоминали почему-то грустных грузинских князей с клеенок Пиросманишвили.
— Значит, так, — распорядился Алик, — ты, Сокол, становишься за обедом, бери щей, шницель здешний не бери, в нем хлеба половина, возьми чего-нибудь поприличней, на месте разберешься, а мы за пивом, тут хвост длиннее.
Хвост тянулся длинный, потому что не хватало кружек, и надо было, стоя в очереди, поглядывать то и дело по сторонам — не освободилось ли где что, а еще потому тянулся хвост, что буфетчица Дуся была настоящая пивная королева, с выдающимся во всех отношениях бюстом, с химической прической, похожей на архитектурный шедевр, с золотой коронкой на переднем зубе, — взять свою кружку без подобия флирта с нею, без комплиментов, намеков и преувеличенных сожалений — эх, где ж мы раньше-то были, — почиталось неприличным.
Алик же светские приличия соблюдал свято. Он облокотился о стойку и произнес значительно, глядя на Дусю:
— А я все жду, Евдокия Александровна.
— Кружки, что ль? — невинно спросила буфетчица.
— Это само собой. — Алик разочарованно пожал круглыми плечами, давая понять, что в этом смысле он с судьбой вполне смирился. — Я жду большего, Дуся. Того момента, когда нас с вами не будет разделять это озеро, — с нарочитой грустью он помочил пальцы в пивной лужице на стойке, — в котором тонут все мои надежды.
Дуся засмеялась, залилась, закатилась.
— Как же это вы, на полногтя глубины, и уже испугались? Чего же дальше-то будет?
— Дальше, Дуся, будет грандиозный заказ, — мечтательно сказал Алик. — Ну-ка, Саня, между прочим, Дуся, рекомендую, мой лучший друг, доктор философских наук, так, Саня, глянь, вон там, кажется, тара освободилась.
В это мгновение физиономия Алика из иронически блудливой сделалась вдруг серьезной и сосредоточенной, словно тень какая-то слетела на чело, Саня собрался было пошутить по этому поводу, но на всякий случай все же обернулся и посмотрел в ту же сторону, что и Алик.
Шагах в десяти от стойки сидели за двумя сдвинутыми столами, полными бутылок и пивных кружек, блатные с картонной фабрики, семь человек, даже странно, как это столь великолепное застолье сразу же не бросилось им в глаза.
— Такие дела, — тихо и серьезно произнес Алик. — Ватерлоо так и светит. Умнее всего, конечно, когти рвануть, да уж теперь неудобно. Дуся, — добавил он, перегибаясь интимно через стойку, — надо бы кого ни то до силосной старой ямы послать. Предупредить, что товарищи, мол, задерживаются…
Саня по-прежнему все смотрел на блатных, ни сознание опасности, ни признаки страха не отвлекали его от размышлений, он хорошо знал эти лица, потому что ненависть дает самое точное знание, быть может, даже более точное, чем любовь. А он их ненавидел с детства и в толпе узнавал сразу — не по уродству, они бывали и красивыми, не по каиновой печати, они и благостными бывали, но по тому особому качеству, которое выдавало людей, привыкших ежедневно утверждаться за счет унижения других. Это качество он определял про себя как невосприимчивость к миру: к словам, просьбам, радостям и горю, к обыкновенным и естественным чувствам.

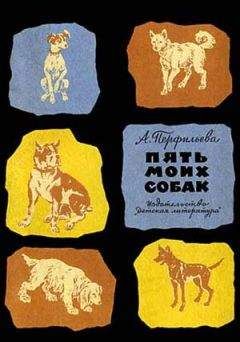


![Светлана Чистякова - Наследники Падших Книга вторая Трудно признать [CИ]](/uploads/posts/books/3156/3156.jpg)