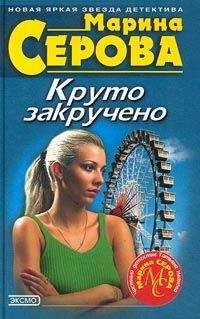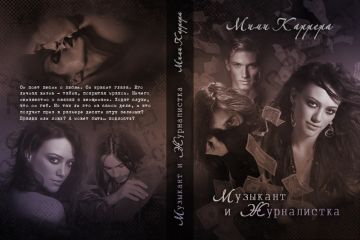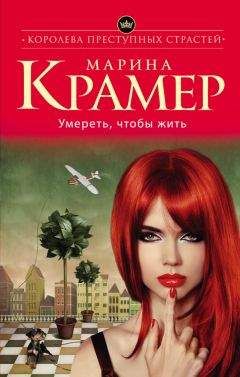Марина Голубицкая - Два писателя, или Ключи от чердака
Фаинке неприятно, но делать нечего, она садится за мой компьютер. Вновь звонят в дверь. Это Толик:
— Ирин, мы поедем, нет?.. Тебе сдавать автодром, не мне… У тебя, Ирин, в последнее время глаз блестит, будто любовника завела. Про что ты пишешь–то, про любовь?
Фаинка выходит:
— Ну ты даешь, Горинская! С демонстрацией… Это круто.
— Ага, понравилось? Это Левушкина байка… Ребята, что в коридоре стоять? Давайте обедать!
Толик оживляется:
— Я съем все, что не приколочено!
Я готовлю пасту: макароны и фарш, перец, морковка, лучок, помидорчики. Фаинка удивляется, как все быстро.
— Что за соус? Заготовка?.. Когда ты это сделала?.. Прямо сейчас?!
— Видишь ли, Фаинушка, для Ирины кухня не составляет проблемы. Она прекрасно готовит. Хотя я вообще не гурман. Я люблю только фасолевый борщ с грибами, который делает моя мать. Но Иринушка…
Я оказываюсь в роли Ларисы. Мною хвастают. Фаина скучнеет.
— Ирин, заметь, как Фаиночка хороша. Просто Дюймовочка, — Толик знает про скандал в музее. — Ну, неимоверно хороша. И весит, как перышко.
Он поднимает Фаинку, платьице задирается, мелькают белые трусики, Диггер подпрыгивает и утыкается в них носом. Мы с Чмутовым смущенно переглядываемся, Фаинка дрыгает ногами:
— Куда вы смотрите? Позорники! Отпустите меня!
Толик требует:
— Ирина, кончай уже над сковородой выпендриваться. Давай макароны! Я есть хочу, как пленный немец. Вчера прихожу домой, дома суп, в нем даже ноздри никто не мочил…
Чмутов вскидывает брови. Я тихо горжусь Толиком. Уходя, он спрашивает:
— Ну, как там Маратка? Григорич ничего не говорил?
— Сделали трепанацию. Лечат. Пока трудно что–то сказать.
112
Я рассказала Лере два эпизода. Музей и конюшня.
— Ты слишком быстро съедаешь людей, — сказала Лера, — за один день.
Это не я, это червяк в яблоке. Мне так хотелось, чтоб перед Фаиной он извинился по–настоящему. Мол, был пьян, безобразен… Я уговаривала его, упирая на то, что она беззащитна. Чмутов взрывался:
— Ничего себе беззащитна! Как пиранья, в своих передачах. Что ты так носишься с этой Фаиной? Ты ж намекала, у них что–то было с Леней? Ты знаешь, нет?
— Не знаю. Ладно, я расскажу. Когда мама сказала, что Гоша погиб, мне казалось, мама его не жалеет… жалеет как–то не так. А ведь она Гошку знала, он ей нравился! Мама кормила всех обедом, а потом Леня пошел покупать для нее билет, Милке тоже нужен был билет на поезд. Они ушли вместе, мама сразу занервничала, заревновала Леню к Милочке. Она заметила, как он смотрит на Милу… я оказалась в такой глупой роли… Гошка позвал нас в кино, мы ходили втроем, я, Гошка и мама. Гошка держал меня под руку… Когда он погиб, мама думала, отчего это он выбросился, вдруг у Лени с Милой что–то было, а Гоша узнал. Такая чушь…
— Ты уверена?
— Игорь! В тот день исполнилось пять лет с его первого прыжка, — когда он в МГУ сломал ноги. Мила знала, но ничего ему не сказала. Когда он ночью пошел на балкон, с настольной лампой, она попросила: «Гоша, не ходи сегодня на балкон», а он махнул рукой: «А, надоело все!» И все.
— Ну и что? При чем тут Фаина?
— Я примчалась из института, мама с бабушкой говорят: «Не плачь, подумай о будущем ребенке». Я кричу: «Что мне этот ребенок? Ребенок может быть другим, а Гоши уже не будет!» Думала, случится выкидыш, ну и пусть, другого рожу. Не понимала, что Зоя–то уже чувствует, уже шестой месяц. Хотела на похороны лететь… Маше говорю: «Дядя Гоша разбился, ты помнишь дядю Гошу?» Маше всего четыре года. Она: «Да. Он такой веселый». У меня не было ужина. Откуда? В выходные на даче, потом на работе. Мама с бабушкой говорят: «Нам не понравилось, что тебе было нечем кормить ребенка». А мне было чем. Потому что пришла Фаина. Принесла творожные сырки. И два тюльпана. Я могла повыть у нее на плече. Ведь больше никто в этом городе не знал ни Гошу, ни что он для меня значил. Она знала — пусть по рассказам, она же писала сценарий. Уже потом она поехала в Николаев, познакомилась с Милой. Они, кстати, родились в один день, Фаина и Мила. Это для Ларисы.
— А что Мила?
— Через несколько лет Мила сказала, что она лишь потом поняла Гошу. Когда целый год ей хотелось лежать, от всех отвернувшись.
— Ну, не знаю, Иринушка… Мы все когда–то умрем. Когда Таню Седых хоронили, Фаина что–то уж так расстроилась… А ведь рак — это что? Нужно просто от жизни отвернуться. Таня от жизни отвернулась, ее рак и настиг. Что уж тут делать, если человек жить не хочет. А Майоров? Майоров осуждает самоубийц?
— Он про Гошку и слушать не хотел. Мы ведь уже после познакомились. Стихи о Гоше он не любил. Говорил, Ленька из смерти друга сделал эстетический факт.
— Неплохая идея, а, Иринушка?! Ты–то не хочешь о нем написать? Сколько тебе еще повесть дописывать? Да повесть, повесть, не стесняйся, это уже не рассказ. Что ты расскажешь мне по–английски сегодня?
113
Мои истории истощались, я выбирала их с двух сторон, по восходящей из детской и по нисходящей из взрослой жизни. В последнюю очередь я добралась до первого курса и стала раскапывать летопись общежития. На младших курсах мехматяне жили в отдельном корпусе, пятиэтажной кирпичной коробке, где внизу находились читалки и душевые, вверху, с третьего по пятый этаж, жили мальчики, а на втором этаже девочки: сорок пять комнат, в концах коридора удобства. В дни ХХV съезда КПСС нам запретили оставлять в умывалке тазики с бельем. Случался и другой дискомфорт. Одну из душевых закрывали на ремонт, и тогда четные числа становились мужскими, а нечетные женскими. Дни порой путали. Если месяц был «с днем», то за тридцать первым следовало еще одно нечетное число. Первого числа кто–нибудь из математических умников с мылом в руке и полотенцем на плече задумчиво вплывал в раздевалку и, заслышав визг, застывал на пороге. Полуодетые порозовевшие девочки убегали в душевую и оттуда, перекрывая шум падающей воды, командовали: «Закрой дверь! С той стороны закрой, придурок!» После этого выходили в коридор тихой стайкой, присмиревшие, в байковых халатиках, в махровых чалмах. А случалось, и ночью, особенно в сессию, кто–то из мальчиков, возвращаясь, обессиленный, из читалки, не докручивал этажи, толкал незапертую дверь, бросал в темноте на стол конспекты и уже начинал стягивать футболку, когда с ближайшей кровати поднималась голова в бигуди и сонно спрашивала: «Татьян, это ты?» Убегая, не каждый вспоминал о конспектах. Но их возвращали.
Когда мы перешли на третий курс, иногородних девочек набралось чуть меньше, и к нам добавили парней–философов, рабфаковцев, всего–то две комнаты — они тут же заняли умывалку и туалет. Не смущались и не краснели, заявив: пусть один конец коридора будет женским, другой мужским. Сорок три комнаты и две. Убедить их не удалось. Взять силой не удалось: мы приклеили букву «Ж», они и внимания не обращали на нашу букву, их не сконфузила бы любая ситуация… Несколько дней мы мучились в очереди, чистили зубы на кухне, в конце концов отрядили старосту к директору Дома студентов,
глубокоуважаемому Мухтару Дмитриевичу. (Только так писали заявления на его имя: «Глубокоуважаемый Мухтар Дмитриевич!») Но сначала мы старосту выбрали: красавицу, блондинку с роскошными волосами, высокую, бойкую на язык. Косметику и одежду собирали всем этажом, и до сих пор мне приятно, что пригодилась зеленая кофта бабы Тасиной вязки, — мы победили.
Полгода спустя один из философов женился на нашей блондинке, другой женился на самой красивой девочке с младшего курса. Тот, что женился на младшекурснице, изменил ей со всеми девчонками из ее комнаты — с одной через год, с другой через два, — в разное время, но со всеми. Они были подругами, они казались такими славными, и он это разглядел. А в нем–то не было почти ничего, лишь обаяние бабника…
— А ты, Иринушка…
— Что я?
— Нет, я не то хотел сказать. Я знаю, что ты никогда не изменяла мужу.
— Откуда ты знаешь?
— Ты же сама мне сказала.
— Я не говорила такого!
Краснею: глупейшее положение. Дело не в том, изменяла или не изменяла. Я помню все, что говорила Чмутову, понимая, что это может разнестись по всему городу, а город не знал меня ни девочкой, ни студенткой. Я не хочу дистиллированной репутации, в ней нет вкуса, может, поэтому я и пишу рассказ о любви.
114
Рассказ разрастался, жил своей жизнью, ему почти не мешали. Маша улетела в Болгарию, маляры побелили фасад и исчезли, я забросила автокурсы, а Толик смеялся, что у меня глаз блестит, как у новобрачной. Я вновь попыталась увильнуть от уроков, но Чмутов стал просить деньги вперед, и мне пришлось хоть изредка с ним встречаться. Они с Ларисой продолжали мне помогать. Давать консультации, как обуздать компьютер. Искать в энциклопедии картинку с грузинским флагом. Выяснять, употреблялись ли те или иные словечки в девяностом году. Как–то Лариса сказала: