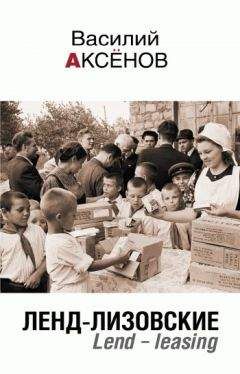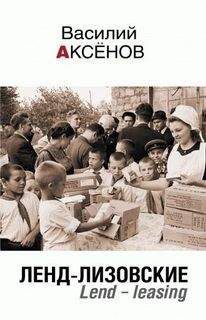Карлос Фуэнтес - Мексиканская повесть, 80-е годы
Какой позор эти волны болтовни, которые поднимает и пропускает через себя такой город, как Рим, неотвержимо и безнаказанно заливая ею душу человека! — повторял он тысячи раз этим летом. Невозможно молча постоять в Сикстинской капелле, перед Капитолием, портретом Иннокентия X или Паолиной. Даже если путешествуешь один и можешь позволить себе роскошь молчания, и то общие места будут преследовать тебя неотвязно, туманить и отуплять сознание, душить каждый росток мысли, принижать и мельчить любое неповерхностное суждение, с унынием признавал даже сам Беренсон,[99] едва ступал на землю Италии. А если, как в его случае, вас сопровождает супруга, впервые попавшая в Европу, поток готовых фраз, дешевых ассоциаций льется подобно полноводной реке, затопляя все: Пьяцца-дель-Пополо и фрески Караваджо, Форнарину и Рафаэля, живописные сады холма Пинчо и роковую прогулку, погубившую честь Дэзи Миллер; к этому еще добавляются социологические рассуждения, обрывки исторических познаний, пресса, кино.
Когда Леонора среди развалин пыталась вспомнить страницы учебника истории искусств, жадно проглоченного перед путешествием, роившиеся вокруг нее образы выплывали из времен детского чтения «Quo vadis»,[100] запечатлевшего свирепых львов, толпу христиан и Нерона, конечно в исполнении Чарльза Лоутона, а в закоулках памяти с величавой томностью возрождалась Клеопатра — Клодетт Кольбер, разумеется ничего общего не имевшая с царицей, которая усеяла Рим обелисками и котами; тогда он сыпал про себя такими словечками, что, услышь бедняжка их записанными на пленку, она бы тут же умерла от стыда. Но порой, когда Леонора брала его под руку и шептала почти на ухо, что есть в архитектуре эпохи Диоклетиана элементы потрясающие (он не разобрал, сказала она «Диоклетиан» или «Диалектиан», а лишь увидел, как она обвела широким неопределенным жестом часть пейзажа, где были сосны, уцелевшая арка, полуразрушенные колонны и колокольня, выглядывающая из густых зарослей лавра), она так радовалась, говорила так горячо, что он невольно заражался и чуть ли не испытывал головокружение. О, где ты чистое простое счастье созерцать эти сосны, эту арку, колонны, лавры, колокольню в одиночестве и твердить самому себе, не произнося ни слова, что готов любоваться всеми элементами, будь они диоклетианскими или диалектическими, какие только встретятся на пути!
Путешествие было задумано, чтобы познакомиться наконец с Сицилией; эта часть Италии, ускользнув от него в молодости, со временем (теперь он уже не путешествовал, разве только вынужденный профессиональной надобностью) превратилась в подлинное наваждение. За последний семестр он прочел о Сицилии все, что мог найти в университетской библиотеке. Но в Риме они отдались на волю времени и откладывали поездку на юг со дня на день, пока она не стала неосуществимой.
Еще в самом начале каникул было решено ничему не сопротивляться, позволить действительности делать с ними что угодно, лишить себя малейшей возможности выбора, плыть по течению обстоятельств; таким образом, к концу каникул пришлось отказаться не только от острова, но также и от большей части заранее намеченных мест, кроме неизбежных Флоренции и Венеции, их они осмотрят бегло, по дороге во Франкфурт, откуда они самолетом вернутся в Мексику. Леонора начала забрасывать удочку, не обойтись ли без этих городов. С утра она решительно заявляла, чувствуя смутное раскаяние: «Возможно ли не повидать Венецию? Лучше уж было вообще не выезжать из Халапы! Поедем! Обязательно поедем! Хотя бы на несколько часов. Уехать из Италии, не посмотрев, например, «Бурю» Джорджоне?» Но шли часы, и решительность ее слабела, Рим подчинял ее себе с каждой минутой, разлагая последние остатки воли.
— Да, — заявляла она в конце концов, — разве можно отсюда уехать? Надо выжать из этого города все до последней капли. Согласен? Ведь еще осталось что посмотреть, да и насладиться еще раз уже знакомыми уголками было бы неплохо. Л уж если признаться откровенно, то в глубине души она мечтала сидеть целыми днями под тенью сосны, смотреть, как играют детишки в песке, как солдаты ухаживают за няньками, как гуляет народ, или просто не смотреть ни на что, подставлять лицо солнцу, вдыхать чудесную свежесть сада. Да, лучше всего лететь прямо во Франкфурт; не выходя из аэропорта, сесть в самолет, который доставит их домой, а потом закрыться у себя и вспоминать, вспоминать римские сумерки. Да…
Но было ясно, что для Леоноры все оказывалось непросто. За ужином Джанни заговаривал, словно хотел поскорее отделаться от них:
— Вы обязательно должны побывать в Мантуе. Не только ради дворца Гонзага и фресок Мантеньи, но ради самой атмосферы этих мест. Город по-прежнему выглядит сельским; там сразу становится ясно, как близки были к природе столицы времен Возрождения.
А если не о Мантуе, то он говорил о Пьяченце, Бари, Равенне, даже Триесте, словно хотел, чтобы они убрались завтра же, хотел освободить свой дом от этих мексиканцев, которые нарушали спокойствие его жены, внушали ей ненужную тоску, а иной раз и неудовлетворенность. Но милосердная Эухения склонялась в таких случаях ему на плечо и просила оставить их в покое, раз уж им хочется жить только в Риме, что ж, она рада проводить с мексиканской парой как можно больше времени, так что чем меньше они будут ездить…
Леонора вздыхала, жалея, что не жила с мужем в этом городе двадцать лет назад или, может быть, что не жила здесь одна. (Как бы она проводила время? А вдруг она познакомилась бы с Джанни раньше, чем Эухения? Кого бы он предпочел?) И снова вздыхала, чувствуя, что не так уж удобно оставаться здесь на долгое время и выслушивать упорные настояния Джанни, готового заслать их куда угодно осматривать города, ничуть ее не привлекавшие. Ни Джанни, ни Эухения, в этом она была уверена, не могли оценить красоту голубых сумерек, когда верхушки сосен вдруг сразу становились черными, а красные стены пламенели густыми тонами. Пожить хоть недолго в Риме! Какое чудо! Часами лежать на террасе, смотреть на крыши окрестных домов, на кроны далеких деревьев! Наслаждаться свободным временем, без устали предаваться удовольствиям, от которых она уже почти отвыкла: прогулки, яркие краски, вина, кафе и беседы с хозяевами! Эухения была единственной женщиной, к которой она не испытывала ревности, хотя и знала, что муж был слегка влюблен в нее, когда совсем молодым жил в Риме.
Он наблюдал за женой, догадывался, о чем она думает, немного домысливал, уверенный, что недалек от истины и что нужно лишь слегка расслабиться, и тогда окунешься в поток образов, с помощью которых Леонора пытается запечатлеть эти каникулы, это кафе, где они обедают, воспоминания, что у нее останутся, а во время неожиданных кратких пауз торопился сравнить свои нынешние впечатления с теми, что сохранились у него со времен первого путешествия, когда ему было всего двадцать два года и он думал, что умрет в Риме, а вместо того через несколько месяцев был совершенно здоров и смело устремился навстречу миру.
Рим никогда не станет прежним! Никто никогда не вернет свои двадцать два года.
Если бы он прожил здесь подольше! Если бы не принял предложение читать лекции в английском университете! „Вообще он был против бесплодных сожалений и потому сразу прекращал всякое запоздалое самобичевание. Все произошло так, как должно было произойти. Он уехал из Италии, говорил он себе, когда пришел час отправиться, но это не помешало ему в первый вечер их приезда с Леонорой испытать какую-то неясную тоску, когда перед сном он стал листать старые тетради «Ориона». Его не огорчало, что скоро придется уехать из Рима. Более того, временами ему не терпелось вернуться к своему письменному столу, разыскать старые бумаги и дать выход переполнявшей его энергии. Однажды его прошиб холодный пот при мысли, что могли пропасть черновики рассказа, который он начал писать в молодости, о встрече в Нью-Йорке некой женщины по имени Элена Себальос с ее сыном, но нет, это невозможно, одним из его пунктиков была страсть к порядку. Рассказ найдется в каком-нибудь из ящиков. Интересно взглянуть, выдержало ли груз прошедших лет то, над чем с такой страстью работал он в свой первый римский период. Некоторые страницы он переписывал по десять раз. Возможно, понадобятся лишь незначительные исправления, чтобы довести работу до конца.
Опубликовать старый рассказ! Он первый бы удивился.
В свое время Билли посоветовала забыть о нем.
— Этот рассказ мог быть написан, а вообще-то уже был написан много раз и в Англии, и во Франции, и в Скандинавии, и, говоря по чести, гораздо лучше. У «Ориона» другие задачи, он должен побудить каждого участника вернуться к своим истокам.
Этим, однако, нельзя объяснить, почему он позже, в Мексике, так и не опубликовал эту историю. Помнится, он как-то прочел ее вскоре после приезда в Халапу и тогда опять проникся горячей симпатией к своей героине; понять нельзя, почему он опять похоронил эту новеллу в ящике письменного стола. Теперь он был уверен, что вернется к работе над текстом. Но на этом не остановится; он заново напишет роман о самой Билли Апуорд, который набросал позже. Откровенно говоря, уже одно это стремление оправдывало поездку.