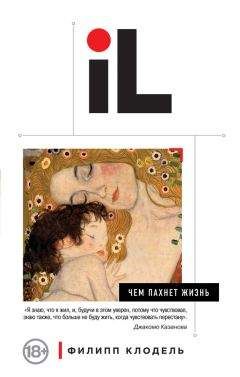Паскаль Киньяр - Тайная жизнь
Художникам неведомо столетие, в котором они живут, их воспоминания относятся к другому миру — к миру без языка, миру бескрайнему, миру единственному.
Именно потому, что продолжение жизни у млекопитающих происходит через секс и через смерть, образовалась речь, которая ведет диалог и плачет.
Именно потому, что природа представляет единую систему, существуют два мира, начиная с языка млекопитающих, вынашивающих потомство внутри, в темноте.
Любовь стремится к осуществлению по ту сторону смерти.
Потому что любить, умирать, стараться просунуть руку через порог жизни, читать, вопрошать, писать — все на этой стадии становится неразличимо.
*Быть человеком — значит раскрыться на два мира. Человек — это порог, граница между внутри и снаружи, между нормальным и хаотичным, между включенным и исключенным.
Человек должен быть двумя мирами, должен быть разорван. В нем мысль и тело разделяются, природа и общество существуют отдельно; жизнь и речь должны расходиться, раздваиваться, животное начало должно быть незавершенным, хотя человек из кожи вон лезет, чтобы доказать самому себе, что его можно противопоставить животному. Человек — это обещание человека, не более того.
Схватить то, что нас хватает. Вернуть мир на землю. Держать за горло то, что нас поглощает. Это искусство.
*Вложить руку в стену. Крадущий мед медведь протягивает его человеку за стену, за которой он прячется. Человек, который пишет сегодня, всегда вкладывает руку в стену. Белая страница — это остаток стены, побелевшей от извести. Белое полотно — это остаток стены, покрытой известью. Партитура — это остаток стены. Человеческое лицо — это остаток стены, потому что в нем сквозит обнаженность. Могила — это остаток стены. Саван — это остаток стены. Ширма, зеркало и т.д. — это остатки стены. Грудь на материнском теле — это основа стены. Круглая и белая луна в ночи — это эпоним стены. В Риме остаток белой стены называли album.
Повсюду были лица (поверхности сразу двух миров), которые тянулись к человеку.
*Далекое служит вместилищем потустороннему. Откуда приходит потустороннее? От живородящего вида.
Этому виду свойственно рождение.
Романы и сказки начинаются с того, что персонаж выходит из дому. Герой идет из дома в дом, чтобы обрести себя.
Возможно, что единственный дом — это собственная кожа (или, скорее, материнская кожа, идентифицируемая как собственная). А единственный уют — черепная коробка.
*Тишина связана с эхо-камерой речи, свойственной другому миру.
Покинутый душевнобольной, у которого остается только голос Другого.
Как Иисус. Как Сократ. Obediens usque ad mortem. (Послушный голосу до самой смерти.)
Мистик отдается голосу Другого и не может позабыть Другого.
Невозможное забвение. Назойливая память Другого.
*Аргумент IX.
Звуковой барьер — это невидимая стена.
Круговое зрение глаз: 1) они видят земную поверхность и общественное устройство (так называемый мир); 2) они оформляют сновидения. Они под угрозой двух миров. Зрение не специализируется во внешнем, как бег или ныряние. Сознание лишь поверхность, служащая чисто языковым интерфейсом между Внешним и Внутренним. Сознание подобно земле между небом и недрами земли (адом).
Аргумент X. Существуют два мира, поэтому тот, кто говорит, приводит в движение то, что отражается в зеркале.
Речь эгалитарна; когда она звучит, то на каждом из полюсов творит одно и то же, годное для обоих. Ego и Alter, который есть Ego, который есть Alter и т.д. — таков принцип диалогизма. Я говорю «ты» некоему Ты, имеющему возможность сказать о себе «я», а мне сказать «ты».
Сексуальность двойственна: Ego отличается от Alter. Alter никогда не станет alter ego. У самки не такое тело, как у самца, а у самца не как у самки; они по-разному наслаждаются, имеют разные репродуктивные возможности, разные слабости. Два противоположных пола никогда не вступят в разговор и никогда не поймут положения друг друга.
Любовь — это вера, согласно которой другой по речи и другой по сексуальности смешиваются.
Вера в то, что женщина будет носительницей фаллоса, а ты — носителем «Я».
Но сексуальные атрибуты не подлежат обмену, как личные позиции в речи. Две несхожести и два субъекта не принадлежат к одному корню и даже к одному уровню.
Они не симметричны.
Они не современны друг другу.
Отсюда система координат, не включающая в себя время; сексуальный источник — неведение времени и, параллельно ему, изобретение речи, которая современна лишь эхо-камере души, в которой она отдается.
Половые различия на зоологическом уровне, которые обновляют запас особей физиологическим старением предшествующих особей, непростительны. Жизненно необходим каждый смертный — он не подлежит замене. И начало времен сексуально. Именно эта необратимость гетеросексуальности лежит в основе человеческого времени после объятия, обрекая его на необратимость, которой не знают звезды, времена года, животные, цветы.
*Они вполуха слушают речь, не совпадающую во времени с тем, что они видят, когда приоткрывают глаза.
*Ослепленный глаз держит веки полуопущенными.
*Мне нравился Пьеро делла Франческа, ошеломленная серьезность. Глаза, видящие не совсем «здесь».
Петр призывал Иисуса установить дом свой на горе Фавор.
Нет, не хорошо нам здесь.
Лица, одурманенные прошлым миром. Глаза, не совпадающие во времени со своим зрением.
Полузакрытые глаза.
Глаза сытого льва.
Летом 1997 года мы с М. отправились изучать эти необычные половинки век, подобные завесам из плотной человеческой кожи, в нерешительности прикрывающие видимое, обнажающие зрение, гладкие и бледные.
Velatio, гладкое и бледное, на полпути к revelatio, объект denudatio[132].
Великолепные и украшенные живописью церкви того времени превратились в заброшенные заводы другого мира.
Но эти взгляды были — те самые, вышедшие из употребления в этом мире.
Вышедшие из употребления в едином мире.
Лицо едва пробудившейся спящей, почти безжизненное, на границе двух миров, вылепленное изнутри, еще не до конца опустошенное: взгляд, который опорожняется от другого мира и еще не пришел к себе.
Взгляды вовнутрь.
Взгляды в забвение зрения.
Существа, застигнутые в своей чуждости миру, как говорила Изольда-Эссильт о любовниках, затерянных в лесу.
Взгляды без малейшей ностальгии по двору.
Остановившиеся до времени в непроницаемости для общества и для столетия.
В страхе перед невероятным совпадением, в сердце огромности природы.
В молчании света.
Мы ездили в Ареццо. Мы ездили в Борго-сан-Сеполькро.
Мы отправлялись в Монтерчи.
*Я обретал молчаливую feritas[133].
Я обретал растрескавшуюся кожуру.
Я обретал расколовшуюся гору.
*Мои глаза закрывались.
Веки смежались. Наваливалась усталость. Я откладывал страницы на одноногий столик.
Я дергал за шнурок, управлявший двумя лампочками торшера в малой гостиной, где мы завтракали.
М. уже спала в соседней комнате.
В темноте я вставал. За окном было черно. Мир отделился от видимого. Я уже не мог разглядеть себя самого. Я наконец-то устал. Наконец-то сон подавал мне знак. Теперь наконец я смогу заснуть. Один за другим я гасил в себе остатки бесцветных отблесков. Я входил в ванную. Развязывал шнурки, расстегивал ремень и последние пуговицы. Снимал одежду. Обезличивал себя. Превращался в неопределенное лицо. Homo — это неопределенное лицо. Некто снимал одежду. Некто бросал все на пол.
Некто отделялся от мира.
Обнажившись, некто чистил тело для сна. Руки были вымыты, зубы отбелены, вода стекала по лицу, некто промокал махровым полотенцем веки, столь склонные к тому, чтобы закрыться. Потихоньку, медленно, некто стирал следы дня. Некто обесцвечивал образы и страхи, ослаблял звуки, навязчивые итальянские песенки, некто толкал дверь спальни, некто направлялся к постели, некто слегка приподнимал простыню, под которой спала М., некто укрывал такими нежными простынями вытянутые обнаженные конечности, затем сворачивался клубком с закрытыми глазами, некто ощущал запах стирального порошка от простыней. Превратившись в точку, некто попадал в другой мир. Или в самый первый мир. Каждый прожитый день призывал его в молчаливое логово.
Глава сорок вторая
М. в Сансе
Порой мне кажется, что я к ней приближаюсь. Я не хочу сказать, что обнимаю ее. Приближаюсь — и все. Становлюсь ближе. Сажусь около нее на диван перед застекленной дверью, ведущей в сад вокруг дома Ионны. Я беру ее за руку, за ее такую крепкую руку с такими нежными пальцами, закругленными, потому что ногти и заусенцы полностью изгрызены. Но вовсе не это я имею в виду, когда использую глагол «приближаться». «Я приближаюсь к ней» означает: мы находимся рядом друг с другом. Мы видим одно и то же. Мое лицо сливается с ее лицом. Мы оба молчим, но разделяем мы не молчание — мы разделяем одно и то же.