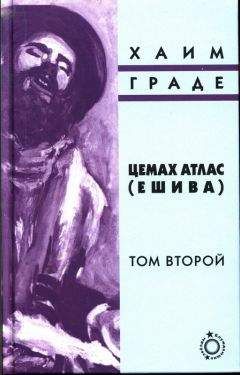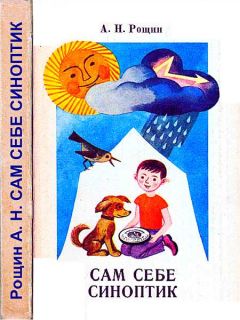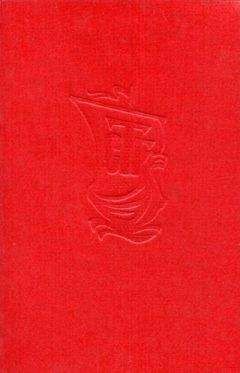Хаим Граде - Безмужняя
Месть
Мэрл на своих высоких каблуках выше Морица; она глядит на него сверху взглядом человека, раздумывающего на краю пропасти: прыгать или нет? Вдруг она обвивает его шею своими длинными руками, закрывает глаза и впивается губами в его губы, пока он не начинает задыхаться. Сладостная близость ее тела, ее груди и живота, коленей воспламеняет его кровь, он срывает ее руки со своей шеи, грубо заводит их ей за спину и прижимает ее к себе. Мэрл, с мучительно изогнутыми уголками губ, с устало опущенными ресницами, быстро-быстро взвешивает все происходящее, и мысли молотками стучат в ее висках: добиться чего-либо добром она может, только отдавшись ему. Она отдастся! Что же она, святая? Пусть он сгниет вместе с ее телом!
— Да ты — огонь! Играть с тобой все равно что с огнем, — быстро и ловко выскальзывает она из его рук.
Мориц оторопело застывает и мгновение, точно в тумане, ничего не видит вокруг себя. Такой женщины у него еще не было. И у нее наверняка не было настоящего мужчины. Если бы она так не изголодалась, она не целовалась бы так дико, так безумно.
— Ты не носишь корсета, а фигурка у тебя как у девушки, — бормочет он, сопя, — тебе сейчас, должно быть, сорок два, но ты не рожала и оттого не изношена.
— Не напоминай о моем возрасте! — дуется она, кокетничая. — Выпьешь водки?
— Обмыть нашу дружбу? — садится он за стол, но тут же вскакивает. — Нет, я больше не пью. Ты же знаешь, что я бросил пить и не даю пить своему другу, мужу твоей Голды.
— Со мной можешь, — придвигает она к Морицу закуски, селедку, колбасу и принимается штопором извлекать пробку из бутылки.
— Если ты хотела выпить со мною водки, могла бы сказать, я пригласил бы тебя в лучший ресторан Вильны. — Он берет из рук ее бутылку, хлопает ладонью по дну, и пробка с треском вылетает. Он наливает полную рюмку для Мэрл и три четверти стакана для себя. Как бывалый выпивоха, он не сразу опрокидывает стакан, а держит его с минуту в руке и рассказывает, как кельнеры выстраивались перед ним, когда он, бывало, заходил в ресторан. Но с тех пор, как он дал обет не пить и довольствоваться домашними обедами, в ресторанах наступил Тишебов[119].
— Лехаим, будем здоровы! — И водка медленно, с бульканьем, вливается в его раскрытый рот.
Мэрл выпивает рюмку сразу, водка обжигает ее горло и ударяет в голову: полтора десятка лет она была сама себе нянькой, берегла свою чистоту для Мойшки-Цирюльника! Она разражается хохотом.
— Ты чего смеешься? — спрашивает он с полным ртом, набитым колбасой и баранками.
— Я измазала тебя помадой. — Она принимается стирать краем носового платка краску с его верхней губы. Он чувствует над собой ее склонившееся тело и маленькие, тугие, точно медные шары, груди. И он утыкается головой в ее юбку, как разъяренный зверь упирается заросшим шерстью лбом в ствол дерева.
— Люблю, чтобы баба была как стальная пружина! — хрипит он некстати и пытается усадить ее на колени. Но она отскакивает и начинает кружиться по комнате, расставив руки, будто бы она готовится к свадьбе и проверяет, не забыла ли, как танцуют кадриль, а затем останавливается у его стула:
— Хочешь знать, почему я только что смеялась? Я вспомнила, как Калман однажды пришел домой пьяным. Он рассказал, что пил в шинке с тобой и с малярами.
— У него куриная голова, с двух-трех рюмок он уже землю носом пахал. Давай еще выпьем. У тебя ведь не куриная голова.
— Выпьем, выпьем! — кричит она, дрожа, как в лихорадке, и едва он наполняет рюмку, выпивает, не дожидаясь его. От двух рюмок и беготни по комнате у нее кружится голова, и ее снова одолевает истерический смех при мысли, что она долгие годы была скромницей, чтобы в конце концов достаться какому-то Мойшке-Цирюльнику. Она смеется задорно и звонко, но как-то загадочно вздыхает. Мориц выцеживает свои полстакана и сидит, опустив голову, вялый, отяжелевший, немного сонный. Его сверлит мысль, что она водилась с мужчинами. «Пьет не закусывая, как настоящий пьяница, и смеется умно, слишком умно, эта продувная бестия», — размышляет он меланхолично и вдруг чувствует ее руку, обвившуюся вокруг его шеи. Она садится ему на колени, как бы желая развеять его меланхолию и не дать ему заснуть. Мориц расстегивает ее безрукавку, блузку, расширенными ноздрями вдыхает запах ее тела. Она не противится, но смотрит на него настороженно: хочет увидеть, не побрезгует ли, увидев морщины на шее, до того скрытые высоким воротничком блузки.
— Ладно, я буду твоей. — Она снимает вязаную безрукавку и в расстегнутой блузке пересаживается на противоположный от Морица стул. — Но скажи мне, зачем ты наговорил Калману, будто я была твоей любовницей? Ведь ты знаешь, что это ложь.
— Не томи меня, — шипит он, и сквозь его жидкие рыжие волосы проступают крупные капли пота. — Твой Калман при всех, как бобер, расхлюпался, что, мол, ты сделала его несчастным, обманула, вот я его и отвлек. Ты должна поблагодарить меня за то, что я помог тебе избавиться от него.
— Ты сказал моим сестрам, что готов на мне жениться, а я знаю, что ни на ком ты жениться не хочешь, тебе нравится оставаться старым холостяком. Но я не буду приставать, чтобы ты на мне женился. Хочешь, чтобы я была твоей, буду твоей, — произносит она спокойно и сухо, глядя ему прямо в глаза, — но как я могу быть уверена, что ты потом не расскажешь моей больной маме о том, что я разошлась с мужем? И могу ли я быть уверена, что ты не уговоришь своего друга Шайку бросить мою сестру? Ведь ты угрожал мне этим!
Мориц смеется с видом налетчика, который не пойдет на «мокрое» дело, когда все можно устроить «всухую»: зачем ему уговаривать Шайку бросать жену или причинять страдания больной старухе в богадельне? Мэрл ведь не какая-нибудь уличная девка на один раз! Если она будет с ним, он постоянно будет у ее ног, — он берет Мэрл за локти и исподволь подталкивает к кровати.
Мэрл не сопротивляется, глаза ее блуждают по комнате, ищут спасения, останавливаются на окне. Перед приходом Морица она стояла там, думала о раввине и целовала стекло. Ей кажется, что полоцкий даян стоит на улице, глядит на ее дом и знает, что там сейчас происходит.
— Спаси полоцкого даяна, он очень несчастный человек, весь город преследует его, сделай что-нибудь. Найди людей, которые заступятся за него. Ты, ты первый взбаламутил город против него.
— Не я был первый, и я не единственный. — Мориц садится на кровать и дрожащими пальцами лихорадочно ищет крючки на ее юбке. — У твоего раввина и без меня достаточно врагов, все святоши против него. Но можешь отрезать мне голову по самые плечи, если я трону его.
Мэрл видит, как голова Морица, расстегнувшего, наконец, ее юбку, нависла над ней, точно голова животного, стоящего на четырех лапах над своей жертвой. Сейчас этот дикий зверь, Мойшка-Цирюльник, станет жрать ее живьем. По ее спине пробегает судорога, словно позвоночник превратился в змею. Но судорога эта — сладкая, теплая, дурманящая все члены. Она испытывает к Морицу одно лишь отвращение, а все же хочет, чтобы он ее мучил, мял, насиловал. Она обращает взор к окну, ее губы шевелятся, точно она молится тихому снежному дню, чтобы он остудил ее кровь. Пусть Мориц возьмет ее! Пусть овладеет ею! Но хоть она бы не отвечала ему. Тело ее — не ее, чужое, отрезанное и приклеенное к ее шее. Она оставит свое тело, а сама убежит, побежит к раввину… И снова мерещится ей, что полоцкий даян стоит на улице, глядит на ее окно и знает обо всем, что происходит в ее доме. Она клялась раввину, что никогда не выйдет за Морица, а теперь отдается ему даже без свадьбы, точно уличная девка. Нет, и тело ее не должно принадлежать ему.
— Сжалься, Мориц, сжалься, отпусти меня, — гладит она его лицо, волосы, вся дрожит, из глаз ее текут слезы. — Я не люблю тебя. Я не могу быть твоей. У тебя есть другие женщины, моложе и красивее меня. Я уже старая, старая и угасшая, — запрокинув голову, она показывает ему морщины на шее.
— Меня ты не любишь, — цедит он и брызжет слюной, — зато ты любишь этого постника, полоцкого даянчика. Ты лежишь в моих объятиях и думаешь о нем. Я считал, что лгут те, кто говорит, будто ты его любовница. Теперь я вижу, что это правда.
— Это ложь, ложь, — глядит она на Морица со смертельным страхом в расширенных глазах. — Я жалею его. Я знаю, что ты угрожал ему побоями и наговорил его жене, будто я была его любовницей, любовницей раввина.
— А как ты узнала, что я говорил с ним и с его старухой? Кто тебе рассказал? Понимаю! Он сам и рассказал. Ты встречаешься с ним, и вам обоим позарез нужно, чтобы жена его ничего не знала, — намеренно пугает он ее, чтобы она не сопротивлялась.
— Раввинша проклинает меня, и раввин проклянет, — шепчет Мэрл, закрывая глаза.
— Оставь их в покое, раввина с его женой. Они о тебе уже не думают, у них беда посерьезнее: их ребенок умер.
Она лежит неподвижно, закрыв глаза, словно упала в пропасть. Долгое время смысл его слов не доходит до ее застывшего сознания. Потом она медленно-медленно поворачивает голову, открывает глаза, точно просыпаясь, и, изо всех сил оттолкнув его, соскакивает с кровати, пятится от него, взъерошенная, растрепанная.