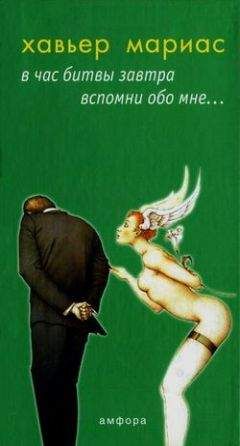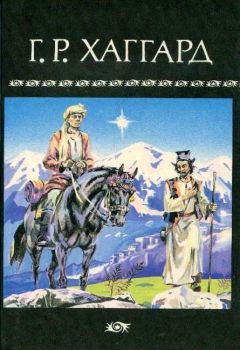Хавьер Мариас - Белое сердце
«Ты должен убить ее», — сказала тогда Мириам. И Гильермо ответил, отрекаясь от своей больной жены, которая была далеко, за океаном, отмахнувшись от Мириам, как мать, отмахиваясь от назойливого ребенка, поддакивает ему, не задумываясь, — легко вынести приговор, легко сказать: «Я убью», — от этих слов в мире ничего не изменится, все знают, что слова — это не преступление (хотя закон не всегда с этим согласен); язык около уха, язык не убивает, не совершает действия, он просто этого не может: «Хорошо, хорошо, я это сделаю, а сейчас продолжай ласкать меня». Позднее она вновь завела разговор об этом, но в голосе ее уже не было былой решимости: «Если ты ее не убьешь, я покончу с собой. На твоей совести все равно будет труп — или ее, или мой».
«Ты ведь ему не рассказала, что я следил за ним?» — спросил я. — «Нет, — ответила Берта. — Может быть, когда-нибудь расскажу, если ты не будешь возражать. Но я говорила о тебе, о наших с тобой предположениях и догадках». — «И что он на это сказал?» — «Ничего. Смеялся». — «Так, так. Значит, вы говорили обо мне». — «Я рассказала ему немного. В конце концов, мы выставили тебя за дверь, чтобы он смог подняться ко мне, понятно, что он хотел немного узнать что-нибудь о человеке, которому причинил беспокойство». Берта словно просила прощения, хотя и не была ни в чем виновата. Разве что в моем вопросе ей послышался упрек, и все из-за этого «значит», которое превратило мой вопрос в утверждение. Берта не хотела разговаривать, отвечала неохотно, только чтобы не показаться невежливой или чтобы загладить вину за то, что мне пришлось бродить по улицам ночью. Халат был запахнут неплотно, так что ее грудь наполовину была видна в вырезе халата и полностью — через шелковую ткань, — та грудь, на которую я не мог заставить себя смотреть, когда снимал Берту на видео, но сейчас мне было приятно смотреть на нее — желание пришло не вовремя. Одета она была провоцирующе. Но она была моя старая подруга. Я сдержался.
— Ну, я пошел спать. Уже совсем поздно, — сказал я.
— Я тоже сейчас иду, — ответила она. — Мне только надо немного убрать.
Она солгала, как солгал я позднее Луисе, за океаном, когда сказал, что не хочу идти спать, потому что хотел понаблюдать за Кустардоем из окна. Убирать было нечего, разве что раскрытую коробочку и флакон «О де Герлен» со столика. Я взял свою книгу, свой диск и свою газету, чтобы унести их к себе в комнату. Я все еще был в плаще.
— Спокойной ночи, — сказал я.
— Спокойной ночи, — ответила Берта.
Она не двинулась с места — по-прежнему лежала на софе, перед телеэкраном с механическим смехом, усталая, положив ноги на подлокотники, в распахнувшемся халате, размышляя о новом конкретном будущем, которое пока еще не сулило ей новых разочарований; а может быть, она ни о чем не думала; я зашел в ванную, и, пока я чистил зубы, мне казалось, что сквозь шум воды я слышал, как она что-то напевает. Пение то прекращалось, то возобновлялось снова — так поют, стоя под душем или лаская того, кто рядом, хотя Берта сейчас не стояла под душем (наверное, хотела сохранить запах) и рядом с ней уже никого не было. И напевала она по-английски: «In dreams I walk with you. In dreams I talk to you» [13], — начало старой известной песенки, той, что пели лет пятнадцать назад. Я не заходил больше в гостиную в тот вечер, прошел из ванной прямо в свою комнату. Я разделся и лег в постель, не хранившую никаких запахов. Я знал, что еще долго не смогу заснуть и приготовился к бессоннице. Как всегда, я оставил дверь полуприкрытой, чтобы было прохладнее (в Нью-Йорке окна нижних этажей всегда плотно закрывают). И в эти минуты, когда мне хотелось спать гораздо меньше, чем в любой другой момент этой долгой ночи и когда смолкли все звуки, я снова услышал очень тихий, словно доносящийся через стену, голос «Билла» или голос Гильермо, вибрирующий голос певца-гондольера, голос, напоминающий звук пилы, отвратительный голос, повторявший с экрана рубленые фразы по английски: «Вот так. Если твоя грудь, и твой лобок, и твоя нога убедят меня, что ради них стоит рискнуть. Если ты все еще хочешь этого. Может быть, я тебя уже перестал интересовать. Наверное, я кажусь тебе слишком прямолинейным. Жестоким. Грубым. Я не жестокий. Я не могу терять время зря. Не могу терять время. Не могу рисковать».
* * *
Восемь недель не такой уж долгий срок, но если через одиннадцать-двенадцать недель после возвращения снова куда-то уезжаешь, то в сумме получается не так уж и мало.
Моя следующая двухмесячная командировка пришлась на февраль, и на этот раз я ездил в Женеву. Это была моя последняя поездка, и я хотел бы, чтобы она оставалась последней как можно дольше, — нельзя, чтобы, поженившись, мы с Луисой так много времени проводили в разлуке, чтобы у меня не было возможности наблюдать, как она меняется, и привыкать к этим переменам, чтобы у меня не возникало подозрений, которые потом приходится отметать. Интересно, а меняюсь ли я? Сам я этого не замечаю но, наверное, я меняюсь тоже, раз меняется Луиса (меняется в мелочах: подплечники, прическа, перчатки, оттенок губной помады), меняется наш дом — новоселье кажется уже далеким прошлым, меняется работа: я теперь работаю больше, а Луиса — меньше, в последнее время она почти не работает. Сейчас она подыскивает постоянную работу в Мадриде; с того дня, как я уехал в Нью-Йорк, и до того дня, когда вернулся из Женевы, то есть с середины сентября и почти до конца мая, она уезжала из Мадрида только один раз (и то не на несколько недель, а на несколько дней) — в Лондон, заменяла официального переводчика (тот некстати заболел — заразился ветрянкой от своих детей), нашего знакомого, того самого высокопоставленного лица. Наше высокопоставленное лицо обзавелось теперь личным переводчиком, этот пост заполучил один интриган (его имени-то никто толком не знал, зато теперь, с тех пор, как заполучил это место, он требует, чтобы к нему обращались не иначе, как называя обе его фамилии: Де ла Куэста и Де ла Каса). Поездка у него (у высокопоставленного лица, а не у больного ветрянкой переводчика — тому запретили въезд в страну, чтобы он кого-нибудь не заразил) была короткая: он собирался только выразить сочувствие своей недавно потерявшей пост бывшей коллеге и заодно поговорить с ее преемниками о том, о чем наши представители всегда говорят с британцами: Гибралтар, ИРА, ЭТА [14]. Луиса не рассказывает невероятных историй (да я их от нее и не жду), и о той встрече она рассказала мне очень мало, — предполагается, что переводчики, даже если они не давали присяги (правда, это больше касается не тех, кто сидит в кабинке синхрониста, а тех, кто работает на переговорах — я исключение, я работаю и там, и там, хотя последовательным переводом я занимаюсь крайне редко: синхронисты и те, кто занят последовательным переводом, терпеть друг друга не могут), никогда не рассказывают о том, что происходит в переговорной, это надежные люди, которые не выдают секретов. Но мне-то она могла рассказать. «Пресная», — охарактеризовала она беседу, что происходила все еще в официальной резиденции, которую потерявшей свой пост англичанке предстояло покинуть через несколько дней, — кругом стояли наполовину заполненные коробки с ее вещами. «Впечатление было такое, что он смотрел на нее скорее как на старого друга, а не как на официальное лицо, а она была слишком подавлена, чтобы проявлять живой интерес к тем проблемам, что волновали его, — должно быть, они вызывали у нее преждевременную ностальгию». Был, правда, один отзвук того откровенного разговора, в который втянул их я в тот день, когда мы с Луисой познакомились. Кажется, англичанка снова процитировала Шекспира, «Макбета», которого, похоже, постоянно перечитывала или смотрела в театре. «Вы помните, — спросила она, что говорит Макбет, получив известие о смерти Дункана? Это известное место». — «Я что-то позабыл, напомните, пожалуйста», — извинилось наше высокопоставленное лицо. — «Макбету слышится голос, который кричит: „Macbeth does murder Sleep, the innocent Sleep"» (Луиса перевела это как «Макбет убивает Сон, невинный Сон»). — «Именно так, — продолжала леди, — я чувствовала себя после своей неожиданной отставки: словно меня убили во сне. Я была невинным сном, окруженным верными друзьями, охранявшими мой покой, и эти самые друзья, как Макбет — Гламис и Кавдор, — вонзили в меня кинжалы, пока я спала. Самые опасные враги, друг мой, — это друзья, — напомнила она очевидную истину нашему высокопоставленному лицу, человеку, который взошел наверх по трупам своих друзей. — Никогда не верьте тем, кто с вами рядом, тем, кого, кажется, и принуждать не надо, — они и так вас любят. И не спите: годы спокойствия располагают нас к этому, мы привыкаем чувствовать себя в безопасности. Я задремала на минуту — и видите, чем это кончи лось?» Она выразительно повела рукой в сторону полузаполненных ящиков, словно они были свидетельством ее позора или каплями ее крови, пролитой убийцами. Минутой позже бывший испанский коллега оставил ее и отправился на встречу с ее преемником, или, что в данном случае одно и то же, с ее Макбетом — Гламисом и Кавдором.