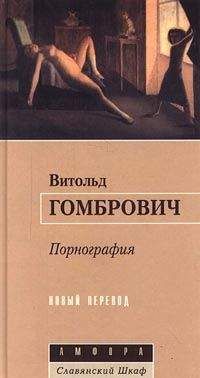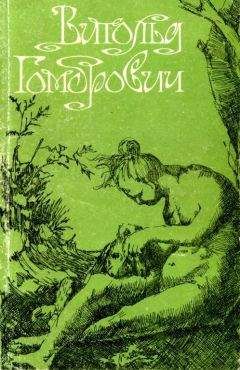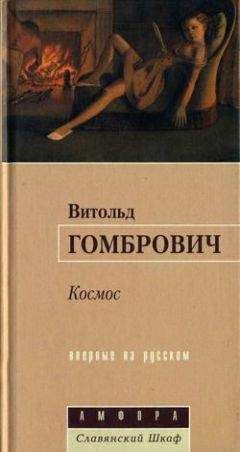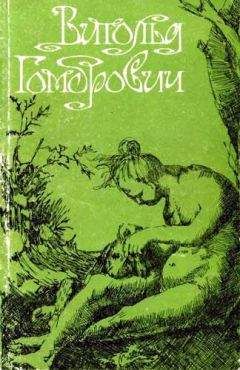Витольд Гомбрович - Дневник
После я познакомился со многими аргентинскими литераторами, но остановлюсь на первых моих шагах, поскольку последующие немногим от них отличаются. Сильвина была «поэтессой» и время от времени издавала томики стихов… ее муж, Адольфо, был автором очень приличных фантастических романов… и вот эта культурная пара целыми днями пребывала в поэзии, в прозе, посещала выставки и концерты, изучала французские новинки, собирала фонотеку из граммофонных пластинок. Был на том ужине и Борхес, вероятно, самый талантливый из аргентинских писателей, интеллигентность которого концентрировалась на его личных муках; я же — справедливо или нет — полагал, что интеллигентность — это мой паспорт, нечто такое, что дает моим симплицизмам право существования в цивилизованном мире. Но, не говоря даже о чисто технических трудностях дела — мой корявый испанский, плохая дикция Борхеса, говорившего быстро и непонятно, не говоря уж о моей нетерпимости, гордыне, злости — об этих последствиях болезненного экзотизма и несвободы на чужбине, — какие могли бы быть возможности понять друг друга у меня и у этой интеллектуальной, эстетствующей, философствующей Аргентины? Меня в этой стране восхищал низ, а это были верхи. Меня привлекала темнота Ретиро, их — огни Парижа. Для меня эта непризнанная молчаливая молодость страны была живым подтверждением моих собственных переживаний, состояний духа, того, благодаря чему эта страна увлекала меня, как мелодия или как предчувствие мелодии. Они же не видели в этом никакой красоты. А для меня, если в Аргентине и было что-то достигающее полноты выражения и способное нравиться как искусство, как стиль, форма, так это то, что появлялось на ранних стадиях развития — в юноше и никогда во взрослом. Что же так важно в юноше? Конечно, не его ум, не его опыт, знания, умения, которые всегда хуже, чем у человека опытного и зрелого, важна как раз его молодость, эта его единственная козырная карта. Но они не видели в этом ничего достойного внимания, и аргентинская элита напоминала скорее смирную и старательную молодежь, стремящуюся как можно скорее научиться у старших старости. Все, что угодно, лишь бы не быть молодым! Лишь бы иметь зрелую литературу! Лишь бы сравняться с Францией и Англией! Лишь бы поскорее вырасти! А впрочем, интересно, как бы это у них получилось стать молодыми, если все они были уже людьми в возрасте и их личная ситуация вступала в противоречие с молодым возрастом страны, а их принадлежность к высшему социальному классу исключала настоящий союз с низами. Поэтому Борхес был тем человеком, который совершенно оторвался от основы и считался только с собственным возрастом, это был зрелый человек, интеллектуал, художник, случайно родившийся в Аргентине, хотя точно так же, а может, даже и с большим успехом, он мог бы родиться на Парнасе.
Атмосфера страны была такова, что в ней этот рафинированный по мировым меркам Борхес (ибо, если он и был аргентинцем, то делал это по-европейски) не мог получить отклика. Он был какой-то добавкой, был как приклеенный, как орнамент. Бессмысленно было бы требовать от него, человека в летах, чтобы он стал непосредственным глашатаем молодости, чтобы со своих высот он буквально выражал бы низы. Главный же мой упрек к ним состоял в том, что они не могли выработать собственного отношения к культуре, такого отношения, которое соответствовало бы их собственной реальности и реальности Аргентины. Да, они были зрелыми, но ведь находились они в той стране, где зрелость была слабее незрелости; здесь, в Аргентине, искусство, религия, философия значат не то же самое, что в Европе. Вместо того, чтобы брать неизвестно откуда и пересаживать на местную почву деревце, а потом ныть, что деревце растет кривое, не лучше ли выращивать что-нибудь более соответствующее природе здешней почвы?
Вот почему эта кротость аргентинского искусства, его правильность, его мина отличника, его благовоспитанность стали в моих глазах свидетельством бессилия по отношению к собственной судьбе. Я предпочел бы творческий промах, ошибку, даже небрежность, но исполненные той энергией, пьяные той поэзией, которыми просто дышит страна и мимо которых они проходили, уткнув носы в книги. Не раз я пытался доказывать кому-нибудь из аргентинцев то же самое, что не раз говорил полякам: «Прерви на минуту свое писание стихов, рисование картин, разговоры о сюрреализме, сначала реши, не скучно ли тебе, проверь, все ли для тебя так важно, подумай, не станешь ли ты более естественным, свободным и творческим, если пренебрежешь всеми теми богами, на которых ты молишься. Прервись на минутку, чтобы задуматься, какое место ты занимаешь в мире и в культуре, задуматься над выбором подходящих для тебя средств и целей». Куда там! Несмотря на всю их интеллигентность, они вообще не понимали, о чем идет речь. Ничто не могло сдержать производственный процесс в цехе культуры. Выставки. Концерты. Лекции об Альфонсине Сторни или о Леопольдо Лугонесе. Комментарии, глоссы и штудии. Романы и новеллы. Томики поэзии. Да к тому же я — всего лишь поляк, а они наверняка знали, что поляки не fino[84], да и вообще не на высоте парижской проблематики. Поэтому они пришли к выводу, что я — заурядный темный анархист, из тех, что при отсутствии достаточно глубокого образования провозглашают élan vital[85] и презирают то, чего сами не в состоянии понять.
Вот так и кончился ужин у Биой Касаресов… ничем… как и все ужины, съеденные мною в кругу аргентинских литераторов. А время шло… заканчивалась ночь Европы и моя ночь, в течение которых разрасталась в тяжких болях моя мифология… Сегодня я мог бы представить список слов, предметов, лиц, мест, имеющих для меня тяжелое послевкусие сугубой святости, — это была моя судьба, моя святыня. Если бы я привел вас в этот храм, вы бы удивились тому, сколь неважны, а со временем и вовсе ничтожны и презренны, просто смешны в своей мелочной заурядности были те sacra, на которые я молился, — впрочем, святость измеряется не величиной божества, а страстью той души, которая обожествляет… все равно что. «Невозможно противостоять тому, что изберет душа». Под конец 1943 года я простудился и долго температурил. В то время я захаживал поиграть в шахматы в кафе «Rex» на Корриентес. Так вот Фридман, директор шахматного зала, благородный и добрый друг, обеспокоившись состоянием моего здоровья, раздобыл небольшую сумму денег, чтобы я мог поехать на отдых в кордовские горы, что я с удовольствием и сделал, но и там температура не отпускала меня, пока наконец не разбился градусник, одолженный у Фридмана. Пришлось мне купить новый, и… жар отступил. Так двухмесячному пребыванию в Лa Фальда я обязан тому обстоятельству, что фридмановский термометр неправильно показывал температуру, захватывая несколько лишних делений. Мое пребывание было украшено тем, что по соседству, в Валле Эрмозо, жила одна моя знакомая аргентинка, с которой меня познакомила Клео — сестра танцовщицы Розиты Контрерас.
Прибыв в Ла Фальда, я не мог знать, какие смешные и страшные события ожидают меня здесь.
Все шло хорошо. Освобожденный от материальных забот, я поселился в отеле «Сан Мартин». Вскоре я познакомился с парочкой забавных близнецов (о них я уже писал); с ними и с другими молодыми людьми я ходил на экскурсии и приобретал новых друзей, в которых пробуждающаяся жизнь трепетала, как колибри, на чьих лицах цвела улыбка — одно из самых благородных из известных мне явлений, поскольку она приходит вопреки всему, и прежде всего — вопреки безмерной печали, давящей ностальгии и тоске этих лет, отмеченных знаком неудовлетворенности. Знаете этот легкомысленный отдых на море или в горах — унесенная ветром шляпа, съеденный на скале бутерброд или проливной дождь на горной тропе — и моя договоренность с Латинской Америкой — этим обновлением прекрасных рас Европы, поразительно тихим и нежным в своем вежливом существовании, — ничто, казалось, не может нарушить ее; а ведь именно тогда мой брат и его сын — мой племянник — оказались в концлагере, мать с сестрой моей, покинув разрушенную Варшаву, скитались по провинции, а с рейнских берегов доносился рев ужаса и боли последнего немецкого контрнаступления, но этот рев, этот крик, о котором я ни на минуту не забывал, делал мою тишину еще более тихой. Не следует думать, что, общаясь с этими мальчиками, я вел себя так, как будто был одним из них. Ни в коем случае — такого никогда бы мне не позволило мое представление о смехотворной несуразности; я вел себя как старший, презирая их, высмеивая, дразня, и пользовался всеми теми преимуществами, которые дает нам положение взрослого человека, зрелость. Но это-то как раз их и привлекало, разжигало их молодость, и одновременно, параллельно этой тирании, утверждалась тайная договоренность, в основе которой была наша потребность друг в друге.