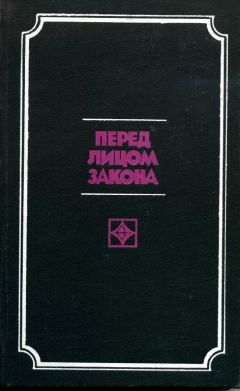Юрий Герт - Приговор
Мы ехали шагом, мы мчались в боях
И яблочко-песню держали в зубах...
Это уж Федоров... Должно быть, Витька и половины слов не понимал, но Федоров его завел, закружил ему головенку:
Гренада, Гренада, Гренада моя...
Кто мог устоять против этих набегающих волнами, как морской прибой, переливов?.. Федоров отошел к стеллажам, стал рыться, отыскивая томик Светлова — надо же, забылось, как дальше, где про «траву-малахит»... Листая сборничек, оглянулся, перехватил взгляд Татьяны, которым она смотрела на него, и подумал вдруг — хотя с чего бы?— что ведь она ему подыгрывает... И взгляд ее утомленно прищуренных глаз горек, такая тяжелая, неподвижная горечь в нем залегла, что Федоров себе не поверил, задержался на нем, но ей неприятно это было, как если бы обнаружилось, что за нею подсматривают, она опустила веки... «Я пошла, извини... Я просто устала...» — сказала она и для большего правдоподобия зевнула, потянулась всем телом, желая показать, как она устала и как ей невмоготу слушать про Гренаду, про «яблочко-песню»— среди ночи после такого дня и перед новым таким же — ах, если бы таким же днем...
3Он остался один, с томиком Светлова, который теперь показался ему ненужным; он вернулся в просторное, продавленное кресло, у окна, где до того сидел,— плюхнулся в него; он тоже устал, слишком устал, чтобы попытаться, уснуть, прошли времена, когда он валился в сон, как подрубленный, а сегодня тем более — требовалось побыть одному, оклематься, прийти в себя... Он откинулся на мягкую, глубокую спинку, сыроватый воздух освежал грудь под расстегнутым воротом, шею, лицо, было ощущение, словно он в полете, словно несется куда-то в обступившем, со всех сторон черном, в мелких звездочках, небе, и его крутит, кружит, опрокидывает вниз головой, и нет ни верха; ни низа — кругом только черная, отчаянная жуть...
И ему вспомнилось, как однажды ночью, после позднего, как всегда в степи, ужина вышел он из одинокой чабанской юрты, стоявшей посреди, казалось, не Сарыарки — посреди мира, Вселенной, и единственный, быть может, раз в жизни ощутил с пронзительной ясностью, что Галактика, Млечный Путь, невидимые планеты к миры — все это расположено вокруг, средоточием же, центральной и главной точкой является он, Федоров. Но — вместе с тем и не только Федоров, стоящий в десяти шагах от юрты: что-то гораздо более значительное, огромное вмещалось, в нем, чем то, к чему он привык и что до сих пор считал собою... Примерно это чувствовал он в тот момент.
А отовсюду тянуло гарью, паленым смрадом, да и сам Федоров пропах, провонял дымом — волосы, руки, одежда. Но помимо всего, что видел и пережил он в тот день, было у него еще и это необыкновенное чувство. Он вернулся в юрту, нашел, нащупал в темноте, свое место и Витьку рядом, спавшего сном каменным, непробудным,
свернувшись в калачик, и от него тоже пахло гарью, паленой травой, обгоревшей, обугленной степью... Федорову давно хотелось вырвать мальчишку из ленивой праздности каникул, из игрушечной жизни пионерлагерей, с их театральными линейками, соревнованием по заправке постелей. ритуальными кострами под приглядом вожатых. И они поехали — то ли в командировку от газеты, то ли в отпускной вольный вояж — с приятелем Федорова, на его собственной, не редакционной машине — стареньком, первого выпуска «Москвиче», похожем на серого мышонка, — пустились в полное неизведанных приключений путешествие ко Целине — великой стране Целине, которая — хотелось ему — для Витьки стала бы конкурентом и Жюля Верна, и Фенимора Купера.
Ах, весело было — с первого дня, с первого — что там!— не дня, а часа!.. Эдуард, дядя Эдя, как звал его Витька, подрулил на своем «Москвиче» в семь утра к их подъезду— эдакий денди, собравшийся на прогулку, в шляпе, при галстуке, в брюках с отутюженными стрелками. Но примерно через час он лежал у обочины, на разостланном под мотором куске запасливо прихваченного с собой брезента, уже без галстука, в старой вылинявшей ковбойке и умело, даже с каким-то эстетическим шиком, залатанных штанах, а они с Витькой орудовали монтировкой, свинчивали гайки с поддомкраченного колеса, накачивали камеру, залатав ее сырой резиной.
«Москвичок» немало тогда подпортил им нервов, они то и дело сворачивали с дороги, чтобы дать ему передохнуть, найти мастерскую, что-нибудь заменить, поправить, но зато и разного рода неожиданности наматывались одна на другую. В первом же совхозе встретился им роскошный сад, похожий не то на степной мираж, не то на зеленое облако, таким увидели они его, спускаясь с холма, у которого раскинулась центральная усадьба. И сторож, как и многие в том совхозе, «с пид Полтавы родом», ходил с ними между только-только начавших плодоносить яблонь, ковыляя на деревянном, по самое колено, протезе —всю войну плавал он в Северном флоте, и была на нем тельняшка, и боцманские усы могли заворожить не только Витькуу, и морские словечки, легко излетавшие из его рта, звучали здесь, в степном краю, так же причудливо, как и название сада: «Матросский»... А вечером, колеся по совхозу, они случайно завернули на кладбище. Оно было молодое, неогороженное, в кустиках колючей, похожей на ржавую проволоку травы. В глаза им бросились две могилы: одна — обнесенная с четырех сторон решеткой из железных прутьев, с воротцами, над которыми приварен: был из броневой стали, казалось, вырезанный силуэт трактора, и другая — с истоптанным продолговатым холмиком, с раскуроченной в щепье дощатой пирамидкой. Под расколотым стеклом в рамочке сохранилась фотография: средних лет мужчина, в майорской форме, с одутловатым, оплывшим лицом, с тяжело набрякшими веками над маленькими, сумрачными глазками. Вид разоренной могилы вызывал жалость и страх. Уже потом узнали они, что в первой похоронен был тракторист, который замерз в пургу, подвозя на ферму корма и заплутавшись в степи; второй же, как о том нехотя рассказывали, служил в давние, то есть в сталинские времена в органах, затем его оттуда убрали (так и было сказано: «убрали», — осторожненько, с давней опаской), и вот он с женой и детьми приехал в совхоз, работал свинарем, пил, затевал дома скандалы, драки, а под конец удавился, перекинув ремень через спинку кровати.
В тот же день, вечером, отвечая на недоуменные Витькины вопросы, Федоров рассказал ему о судьбе деда. Они сидели на крылечке совхозной гостиницы, в сумерках, временами слышался мирный, беззлобный собачий брех, где-то играли на гитаре, пели хором приезжие студенты, и недалекое, в сущности, прошлое начинало казаться Федорову как бы никогда не существовавшим.
Изрядно поколесили они в то лето по целине — перестав быть целиной, она все еще так называлась. Вдоль дороги от горизонта до горизонта лежали поля, желтые: от солнца и зреющей пшеницы, мелькали поселки, усадьбы, плосковерхие саманные постройки, мелькали люди, множество людей, с которыми Федоров заводил разговоры, соглашался, не соглашался,— не для него, для Витьки они мелькали, не так-то легко было ему разобраться в пестроте лиц и слов, ухватить основное, доискаться до общего для всех дела. Но даже простое мелькание распахнувшейся для мальчика огромной, подлинной жизни радовала. Федорова. И он, потаенно млея, замечал, как жадно приглядывается Витька ко всему вокруг, следит, как отец достает блокнот, как он пишет, думает, сопоставляет, короче— работает... Но самое главное ожидало их впереди.