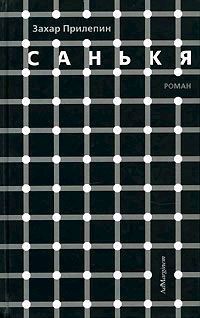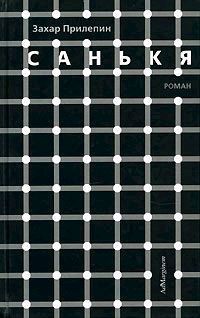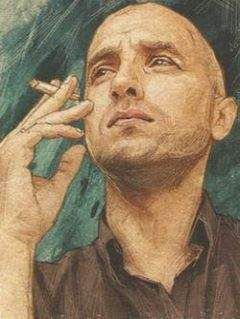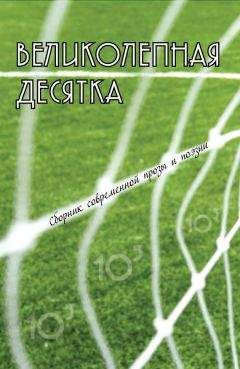Захар Прилепин - Десятка
Мы пошли в гору, «на жердочку» — мое излюбленное место, там, где резко начинается и обрывается город. Медом я ее покорил. В наше время дамы привыкли быть приглашаемы в бар. А тут мы шли, и я впервые подумал, что мое сердце, когда-то вырубленное палачом и помещенное в торбу с патокой желудочного сока для лучшей сохранности, для того, чтобы предстать во всей своей красе перед Верховным Визирем, все еще ёкает.
Засунув в эту торбу пятерню, я доставал свисающие с пальцев лучи меда, и мы их слизывали-целовались. Целовали сердце: ам, ам.
— Майонез будешь?
— Обожаю!
У меня еще была банка майонеза, и мы ели его без хлеба, и всю ночь напролет говорили о всякой ерунде, о всякой всячине, что дарит нам тепло, о солнце, о звездах.
Показывая небоскребы с горящими окнами, я хвастался, что вот этими самыми руками строил храм и что «изба» в переводе с тюркского означает «теплое место»… и как жаль… хотя там, где нам тепло, там и есть наш дом, запомни это, Айя.
А затем, читая суру «Пчелы», я рассказывал, что каждое творение рук человеческих, будь то забор или небоскреб, исписано словами, и стоит эти слова прочитать, как стены разъезжаются. Но это совсем не страшно, потому что только гам, где нам тепло, наш дом.
— У меня едет крыша, — сказала Айя.
— Пора укладываться спать.
Мы легли под «кукареку» ангелов, в ярких пятнах луны, пальцы в меду, город в огне. И спали, прижавшись друг к другу спинами, постепенно согреваясь под набирающим силу солнцем.
Ее спина была такой горячей, что остатки прошлогодней пожухлой травы вспыхнули ярким пламенем. Это не Нерон, а бомжи подожгли Рим — город, где солнце начинается с жердочки над обрывом.
Когда мы проснулись, Айя предложила мне пойти в музей — там на стенах всюду висят картины-символы, буквы. Видите ли, для нее было очень важно ходить со своим мужчиной в музей. И я не отказался, ведь это наша прямая мужская обязанность.
Мы ходили по залам, держась за руки и рассказывая друг другу наши видения, где и почему должны разъезжаться стены, исписанные буквами. Особенно меня поразил Пикассо.
В полпятого корявая бабуська-смотрительница начала оттеснять нас от картин, вежливо подталкивая руками, вытеснять из зала в зал. А другая бабуська тут же запирала за нами двери тяжелым неповоротливым ключом.
Мы побежали на третий этаж, но там творилось то же самое. Весь народ столпился на лестничных клетках.
— Что нам двери с амбарными замками, — шепнула мне Айя, — когда перед нами разъезжаются стены.
Погасили свет, и мне показалось, что я замурован в холодный простенок, с крышками от бутылок из-под пива, с голубиным пометом. Я остался совсем один. Но тут кто-то достал фонарик, кто-то зажигалку, послышались смешки и остроты, и толпа гуськом потянулась к выходу, где расползлась на три рукава: один к гардеробу, два к туалетам. Мы с Айей тоже вынуждены были разомкнуть наши руки. Я взял свое единственное среди сумочек и пакетов пальто и стал с интересом наблюдать за мистерией фонариков и зажигалок. Они суетились-светились, как пчелы в улье, им было хорошо и весело, а рядом в темных залах болтались тени повешенных и замурованных художников, соскребая со своих лиц голубиный помет и вынимая из ушей пивные крышки.
Мне стало почему-то страшно за Айю, когда она скрылась за дверью туалета и долго пропадала, а потом, к моей радости, как фокусница с горящими глазами, появилась из другой двери.
— Знаешь, — сказала она, когда мы вышли из «нашего дома», — я села на унитаз, а стульчак оказался теплым, согретым чьим-то телом. Это такой кайф — садиться на теплый унитаз, согретый специально для тебя в бездушном музее, и думать, что кто-то дарит тебе тепло своего тела. В этом есть что-то супервеликое, суперчеловеческое.
И тогда я понял, что люблю ее, очень люблю, и мы пошли по вечернему городу, намереваясь зайти в булочную за батоном и в молочную за кефиром, и по пути я спросил ее:
— А знаешь ли ты притчу о собаке, обезьяне и свинье?
— Знаю.
Захар Прилепин
Родился 7 июля 1975 г. в деревне Ильинка Скопинского района Рязанской области.
Закончил университет им. Н. И. Лобачевского.
Дебютировал в 2003 году в газетах «Консерватор» и «Лимонка» с главами из романа «Патологии».
Публиковал рассказы и повести в журналах «Дружба народов», «Континент», «Медведь», «Наш современник», «Новый мир», «Русский репортер», «Сноб» и др.
Вел рубрику в «Литературной газете» и колонку в журнале «Русская жизнь».
Колумнист журнала «Огонек».
Главный редактор нижегородского издания «Новой газеты».
Проза Захара Прилепина переведена на 14 языков.
Лауреат премий «Национальный бестселлер», «России верные сыны», «Солдат Империи», «Ясная Поляна» и др.
Библиография:
«Патологии», Андреевский флаг, 2005.
«Санькя», Ad Marginem, 2006.
«Грех», Вагриус, 2007.
«Я пришел из России», Лимбус-пресс, 2008.
«Ботинки, полные горячей водкой», Астрель, 2008.
«Это касается лично меня», Астрель, 2009.
«Леонид Леонов: Игра его была огромна», Молодая гвардия, 2010.
Верочка
Даже не знаю, с этим ли солдатом или с другим, но она убилась на машине где-то через год, лобовая авария, сразу насмерть.
А тогда мы с Вальком, братиком моим, гнали корову с пастбища и трепались о чем-то.
Корова предусмотрительно шла подальше от нас.
Дня, может, четыре назад мы обнаружили у деда в сарае кнуты и быстро освоили, как издавать ими оглушительный щщщёлк. После каждого удара эхо несколько раз отщелкивалось в ответ, и даже кукушка, чертыхнувшись, умолкала.
Уже на следующий день корова шла домой, держась от нас на расстоянии, чуть превышающем удар кнутом. Едва мы пытались приблизиться к ней, они припускала бегом, косясь на нас сливовым глазом — умная животина.
Путь к дому пролегал мимо пруда.
На третий день на нас заорали рыбаки — им казалось, что щелканьем кнута мы отгоняем карася от их залипших в сиреневой воде поплавков.
Пожаловались на рыбаков деду. Он ответил спокойно:
— Этот пруд я вырыл, щелка́йте сколько хотите. А то опять зарою. Будут на черноземе рыбу ловить…
И добавил:
— Если опять заорут — подойдите и кнутом по заднице им…
Рыбаки все были наши соседи, мужичьё взрослое и нестрашное. Мне ж и Вальку исполнилось уже по тринадцать: подходила пора, когда бояться стоило нас самих, круторебрых, всегда возбужденных, с громкими, галочьими голосами.
Рубах мы не носили, обуви тоже, к середине лета покрывались загаром, замешенным с цветочной пылью, оттого серебрились на солнышке, заметные издалека, как пятаки.