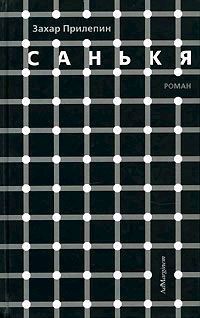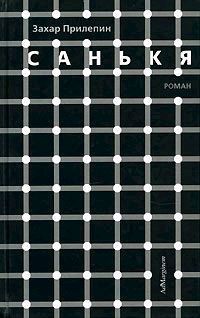Захар Прилепин - Десятка
Этот Имам будто бы жил праведной жизнью. Звали его то ли Абу Ханифа, то ли Капут Халифат, точно не помню, но, пожалуй, ему больше подошло бы имя Винни Пух.
И вот однажды, промолившись всю ночь напролет, этот достопочтенный шейх пытался разрешить стоящую перед людьми проблему — нравственно ли ходить в гости по утрам. И неизвестно, какой бы получился ответ, не постучись в то раннее утро к нему в дверь Абу Кабани. Этот уважаемый отец семейства привел своего маленького сынишку с тем, чтобы Имам отчитал его.
— За что же я должен отчитать его? — поинтересовался Имам.
— О, уважаемый, мой сын так любит мед, что кушает его уже без хлеба как на завтрак, так и на обед, и на ужин. Не чревоугодие ли это?
— Хорошо, — просопел Имам, почесав бороду. — Приходите через сорок дней, и тогда я отучу твоего сына от этой пагубной привычки.
И вот ровно через сорок дней достопочтенный отец семейства Абу Кабани с сыном вновь ранним утром, пока еще земля не превратилась в раскаленную солнцем брусчатку, отправился к Великому Имаму. И только они переступили порог наитишайшего дома, Великий Имам обрушился на несчастного с такой речью:
— О, мальчик, не кушай больше мед, пренебрегая хлебом, это плохо, — после чего, помолчав пару минут, Несравненный поднял бровь и добавил: — Все.
— Как все? — удивился Абу Кабани-старший.
— Так — все, — ответил Имам.
— И ради этих простых слов мы ждали целых сорок дней?
— Но я же не мог, будучи сам большим любителем меда, кого-то поучать, не имел морального права. А сорок дней — это тот срок, за который мед выходит из организма. Сорок дней я не ел меда, — признался Имам Винни Пух.
— Вот какой это был праведный человек, — подытожил ректор. — Пусть он будет вам примером.
Все это я вспоминаю не потому, что мне нечего делать, нечего описывать, кроме своего детства и отрочества, как другим писателям, а лишь для того, чтобы вы не считали меня полным сумасбродом и я сам не считал себя таковым.
Конечно, потом я спился, как положено всем суфиям, валялся под забором, в лужах, но каждый раз, находясь в таком свинском состоянии, я вспоминал и тот зикр-футбол, который мы разыгрывали с друзьями, и свет первого урока, и имама Абу Ханифу, и технику хуруфитов, вспоминал и думал: а все-таки они похожи, эти слова — Абу Ханифа и Винни Пух — в них буквы из одного ряда. А ведь Винни Пух не что иное, как «вино плохо» — буквенное заклинание свыше.
Да, друзья, не пейте вино, не нюхайте, не колитесь… Да, я понимаю, на Руси без медовухи никак, и все-таки… Это говорю вам я, горький пьяница, который в один прекрасный момент перешагнул на следующую после труда и пьянства ступень — ступень любви.
Случилось это четырнадцатого июля в троллейбусе, который идет на восток. Троллейбус — это вообще вещь без сердца, ну как тут не напиться! У автобуса мотор, у трамвая рельсы, а этот так — вещь на лямочках. К тому же в троллейбусе меня преследует притча об обезьяне, собаке и свинье — не помню, рассказывал ли я вам ее. В общем, вдрызг пьяный, в жутком, подавленном состоянии я болтался, пытаясь держаться за поручень и при этом краем глаза следить за своим равновесием.
И тут… — отсюда я буду рассказывать словами своей любимой (скажите мне, что мы такое, как не отражение в глазах своих любимых) — она меня заметила.
Она меня заметила. Ласточкой болтаясь под поручнем, как под радугой, что после дождя, она обратила на меня внимание.
— Я… это самое… чувствую, меня подташнивает, — рассказывала она потом, смущаясь, и, тем не менее, двумя пальчиками, жестом заботливой хозяйки отодвинув со лба длинные черные волосы, словно ирисовые занавески, взглянула на меня и подумала: в мире так много красивых мужчин… и… это самое… забыла.
А как же еще, конечно, забыла, потому что, представьте себе, была пьяна, перебрала-перепила, переплела водку с пивом, потому что ее мутило и она боялась высказать любую мысль вслух, старалась поскорее забыть, сдержать словесный поток. И еще эти снующие туда-сюда машины и электрические столбы — два пальца за окном в рот.
— Я чувствую, что если бы мы вдруг резко поехали в другую сторону, меня обязательно бы стошнило, — и вдруг на ее длинное шифоновое платье, на край занавески кто-то сморкнулся несвежими щами. Она открыла глаза и увидела такого красивого мужчину, такого красивого, что решила: а не стошнить ли ему на пальто в ответ. (Это мне.)
— Я… это самое… когда поняла, что на меня уже кто-то «сморкнулся», мне стало совсем худо… Но я сдержалась, закрыла глаза и прижала пальчик к виску. (Это я ее провоцировал.)
Троллейбус на перевернутых ходулях-цыпочках качнуло с такой силой — не поспишь, — что я очнулся и начал медленно продвигаться к выходу — шаг вперед, два в сторону, — принимая тычки недовольных пассажиров.
— Пропустите его, не видите, ему же плохо! — раздался истошный вопль.
Увидев вокруг столько новых красивых мужчин, которые к тому же не облевали ее платье, можно сказать, красивых интеллигентных мужчин, но стоящих как-то в стороне, она бросилась мне на помощь под презрительными взглядами женщин. (Не надо, я сам!)
Мы вышли, сели у канализационного люка, испускавшего пар шариками, и поняли: если срочно что-нибудь не съедим, нам станет совсем плохо. Свежий воздух, как руки убийцы на шее коня, отрезвляет. Совсем рядом, в двух кварталах, находилось медресе, где я учился, и поэтому, недолго думая, мы отправились туда поесть мяса и попить чаю. Но сделать это оказалось непросто: на всех воротах висели огромные амбарные замки.
— Пойдем отсюда, — дотронулась до моего плеча Айя (так звали мою попутчицу).
— Подожди… У тебя есть платок? — пытался настоять я.
— Зачем?
— Отвечай, есть или нет, — твердил я.
— Есть шарфик.
— Повяжи на голову, — с этими словами я лихо вскарабкался по ажурной решетке чугунного забора и, произнеся положенное в данном случае ритуальное заклинание, перекинул правую ногу на сторону двора.
Моим радужным надеждам осуществиться в этот вечер была не судьба. Я даже не успел спрыгнуть с двухметровой высоты, как появился грубый сторож с ружьем и собакой. Они лаяли и ругались.
Айя отвернулась, а я подумал: это даже хорошо, что я не успел спрыгнуть, все равно она бы не оценила. Мне стало стыдно за то, что не могу накормить девушку, за сторожа. И тут — о, чудо! — о решетку брякнула находящаяся в моей сумке банка с медом. Как же я, нищий ишак, мог позариться на чужое добро, когда у меня целая банка меда!
Мы пошли в гору, «на жердочку» — мое излюбленное место, там, где резко начинается и обрывается город. Медом я ее покорил. В наше время дамы привыкли быть приглашаемы в бар. А тут мы шли, и я впервые подумал, что мое сердце, когда-то вырубленное палачом и помещенное в торбу с патокой желудочного сока для лучшей сохранности, для того, чтобы предстать во всей своей красе перед Верховным Визирем, все еще ёкает.