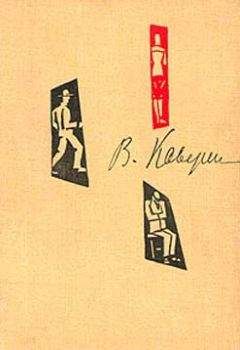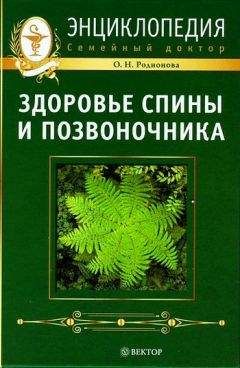Виктория Платова - Stalingrad, станция метро
— Красиво тут у вас, — прошептала Елизавета.
— Обыкновенно.
Почти сразу Елизавета увидела дверь, в отличие от брусчатки и стен, самую заурядную — железо, обитое вагонкой. К двери был приколочен допотопный почтовый ящик с надписью «Для писем и газет».
— И пишут? — поинтересовалась Елизавета, глядя на ящик.
— А некому писать. Все мои со мной.
«Все мои со мной» — значит, Праматерь живет не одна. Значит, у нее есть семья — и наверняка не такая худосочная, как семья Е. К. и К. Э. Гейнзе. С Праматерью всегда так, она (в представлении Елизаветы) — существо крайностей. Если она одна — то совсем одна, и никого рядом, как звезда во Вселенной или президент очень большой страны. А если не одна — то ее должны окружать чада и домочадцы, сопоставимые по количеству с числом пассажиров в вагоне метро в час пик. До сих пор Елизавета склонялась к версии тотального одиночества Праматери Всего Сущего. У нее нет обручального кольца. У нее нет наручных часов. В ее кошельке, под куском плексигласа, хранится не фотография розовощекого малютки, не фотография мужчины с усамибез усов, а дисконтная карта магазина эконом-класса «Дикси». Ей никто не звонит с требованием немедленно вычислить объем воды, по халатности перелитой из бассейна А в бассейн Б; и она сама никому не советует посмотреть, блин-компот, ответ в конце учебника. Есть и другие, менее значимые приметы одиночного плавания. Исходя из этих примет, Праматерь уже давно в автономке.
А теперь получается, что нет.
— Я никого не стесню?
— Никого, не переживай.
Звонка на двери почему-то не было, но Праматерь и не собиралась звонить. Она отперла дверь своим ключом и широко распахнула ее перед Елизаветой:
— Заходи.
Квартира начиналась прямо за дверью, без всяких лестниц; арочную брусчатку и деревянный пол прихожей разделял лишь железный порожек. Довольно вместительный в перспективе коридор казался узким из-за вешалки. На ней висело не меньше полутора десятков пальто, плащей и курток. А обуви было и того больше — пар двадцать, а то и двадцать пять. Давно вышедшие из моды ботинки, полуботинки с галошами, сапоги «прощай, молодость», летние закрытые сандалии с дырчатым верхом; дырки собираются в хорошо продуманные соцветия ромашек. Или астр.
У маленького потешного немца Карлуши были точно такие же сандалии.
Или похожие — на единственной сохранившейся детской фотографии.
В их семейном альбоме не так много снимков. В основном — Елизавета периода полной несознанки, продлившейся вплоть до двенадцати лет: пухлые губы, пухлые щеки, короткая шея, растопыренные пальцы и взгляд исподлобья. Затем пришел черед другого периода — пубертатного. В пубертатном периоде количество снимков резко пошло на убыль, уже тогда Елизавета поняла, что служить украшением пейзажа не сможет. И лучше ей не светиться лишний раз перед объективом. На нескольких, чудом отснятых фотках с Пирогом и Шалимаром, она непременно стоит сзади, заслоняясь подругами, как щитом. Опытным путем доказано: чем сильнее Елизавета старается выглядеть попривлекательнее, тем хуже она получается.
Карлушиных карточек только пять: та самая детская — с сандалиями, в майке, трусах и с белесым чубчиком на бритой голове. Юношеская — Карлуша в пиджаке с ватными плечами и с аккордеоном: он намного, намного красивее, чем молодой Бельмондо. Еще на трех Карлуша снят с Елизаветой, ничего более глобального история не сохранила — ни маршала Рокоссовского, ни Лидии Руслановой, ни разбомбленного Кельна, ни Германии вообще.
А сандалеты остались.
Сандалии, стоящие под вешалкой, — маленькие, они принадлежат ребенку.
— Раздевайся, — сказала Праматерь и первая сняла с себя куртку.
— Здесь места совсем нет…
— Все время собираюсь вторую приколотить. Да руки никак не доходят. Давай рискнем, повесимся. Вдруг не упадет?
Кое-как пристроив пальто и сняв ботинки, Елизавета отправилась следом за Праматерью в глубь квартиры. На фоне светлых (таких же, как в арке) стен квартиры она смотрелась черным облаком, грозовой тучей. В зимней Праматери ничуть не больше вкуса, чем в летней. Вместо блузки с люрексом она носит ангору, отороченную на рукавах и вороте наполовину вылезшим гагачьим пухом, а вместо черного сатинового лифчика — белый, вот он просвечивает сквозь кофту. Со спины, когда не видно прекраснейшего из лиц, Праматерь всегда выглядит нелепо, над ней можно смеяться и думать про нее всякие гадости, всякие глупости. В жизни своей Елизавета не опустится до подобных вещей, особенно после того, что для нее сделала Наталья Салтыкова. Теперь, когда Карлуши нет, она — самый близкий для Елизаветы человек.
Таким вот образом обстоят дела.
В Елизаветиных глазах стоит пелена слез, то выступающих, то уходящих — оттого и разглядеть коридор толком невозможно. Кажется, в него выходят двери, много дверей. Гораздо больше, чем в стандартных квартирах. Елизавета насчитала пять, по потом подумала, что все же шесть. Или семь? Может, это вообще коммуналка?
— И это всё твоя квартира?
— Вроде того. Тебя что-то смущает?
— Большая…
— Ну и я не маленькая.
Это не коммуналка.
Елизавета была в коммуналке, они с Карлушей несколько раз ходили в гости к Кокс-Лёке, на улицу Большая Зеленина. Ничего ужаснее этих культпоходов и придумать невозможно. В коммуналке пахнет прогорклым маслом, прокисшим супом, вываренным бельем, кошачьей мочой, вонючим земляничным мылом по пятьдесят копеек за брусок. В коммуналке то и дело слышны душераздирающие крики, как будто с невидимой жертвы сдирают кожу заживо; а еще слышна ругань, скрип кроватей, скрип оконных рам, звук льющейся в стаканы жидкости и обрывки песни «Молодость моя — Белоруссия».
Здесь все по-другому.
Здесь стоит тишина, чуть звенящая, какая бывает лишь знойным летним полднем. И запахи — они внушают оптимизм. Вернее, это один, довольно сложный запах. Лекарств (но не горьких на вкус, а приятных, что-то вроде пектусина или сиропа от кашля), яблок, глаженых простыней, сушеных трав. Нет, «внушает оптимизм» — все же сильно сказано, больше подойдет — умиротворяет.
— Сортир вот здесь, — на ходу поясняла Праматерь. — Дверь рядом — ванная. Сейчас выдам тебе полотенце и покажу, где кости бросить.
— А ты?
— А у меня еще дел куча.
— А… можно я с тобой посижу? Это не помешает делам?
— Думаю, нет.
…Кухня Праматери раза в два больше их с Карлушей кухни, следовательно, и елок можно поставить две. Или одну, но очень большую, норвежскую, по четыре тысячи за погонный метр; ушлые носатые продавцы в мегрелках утверждают, что такие ели не осыпаются по нескольку месяцев кряду, а (при должном уходе) вообще могут стоять вечно. Единственный недостаток кухни — в ней нет окон.