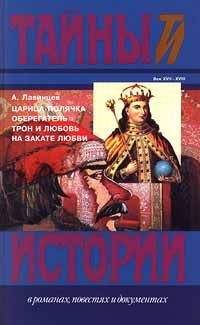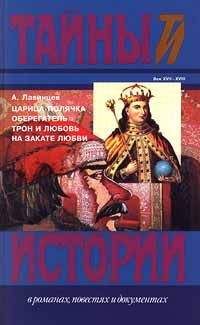Иэн Макьюэн - Суббота
— Вечно она бегает, хотя там так узко, что и не протолкнешься. Хотела сесть на этот… ну этот, длинный — а билета нет. Я ей посылаю деньги, но у нее все сквозь пальцы уходит. Она музыку хочет, а я ей говорю: заведи себе оркестрик и играй сама. И все же я о ней беспокоюсь. Я ей говорю: зачем ты все ломтики кладешь в одну тарелку, когда никто не встает? Не можешь же ты все делать сама.
Генри знает, о ком речь. Он ждет продолжения, но Лили замолкает; тогда он говорит:
— Надо бы ее навестить.
Давно уже он не пытается объяснить ей, что ее мать умерла в 1970 году. Легче поддерживать ее заблуждение и продолжать беседу. Для Лили больше нет ни прошлого, ни будущего. Пусть говорит что хочет, а он пока последит, чтобы она не вздумала съесть пакетик с заваркой, как в прошлый раз, когда этот пакетик пришлось вытаскивать у нее изо рта. Он складывает все пакетики на блюдце и ставит на пол у своих ног. Потом пододвигает к ней чашку, наполненную до половины, протягивает ей печенье и салфетку. Она расстилает салфетку на коленях и аккуратно кладет печенье посредине. Подносит чашку к губам, отпивает мелкими глоточками. В такие минуты, когда она умело выполняет заученные действия и выглядит вполне нормальной: со вкусом одетая, моложавая для своих семидесяти семи лет, со стройными, сильными ногами спортсменки, — ему кажется, что все это ошибка, дурной сон, что сейчас она встанет, выйдет из этой затхлой комнатушки, и он повезет ее туда, где ждут ее невестка, внуки и праздничный ужин.
— Знаешь, тетя, — говорит Лили, — я была там на прошлой неделе, ездила на автобусе, а мама возилась в саду. Я ей говорю: походи, посмотри, что тебе нужно, а потом главное — все правильно расположить. Она чувствует себя плоховато. Ноги болят. Я зайду на минутку, занесу ей кофту.
Мать Лили, суровая женщина, должно быть, изумилась бы невероятно, узнав, что в далеком-далеком будущем, о котором в ее времена писались фантастические романы, распадающееся сознание ее дочери будет снова и снова возвращаться к ней. Может, тогда она стала бы поласковей?
Начав свой монолог, Лили теперь будет говорить без остановки, пока он не уйдет. Трудно сказать, счастлива ли она. Порой она смеется; порой в ее бессвязных речах проскальзывают обрывки каких-то былых ссор и огорчений, и голос ее дрожит от возмущения. Особенно часто появляется какой-то мужчина, не желающий ее слушать.
— Я ему говорю: это же бесплатно, а он говорит: плевать. Я говорю: ты что же, хочешь, чтобы все это зря пропало? А потом придется новые покупать?
Если история чересчур ее расстраивает, Генри вмешивается — громко смеется и говорит:
— Мама, ну это же так смешно!
Лили очень внушаема: она начинает смеяться вместе с ним, настроение ее меняется, и рассказ становится веселее. Сейчас она спокойна: говорит про какие-то часы, и снова про кофту, и опять про узкое место, где трудно протиснуться. Генри слушает вполуха, в полудреме, потягивая бурый чай, в душной тесноте казенной комнатенки, и думает о том, что через тридцать пять лет сам будет сидеть вот так же, лишенный всего, что знал и помнил, а Дейзи и Тео, просидев с ним положенный час, вздохнут с облегчением и вернутся к уже недоступной для него жизни. Высокое артериальное давление — показатель склонности к инсультам. В последний раз было сто двадцать два на шестьдесят пять. Систолическое давление высоковато. И холестерин — 5,2. Тоже так себе. Еще надо следить за уровнем липопротеина-А — говорят, он напрямую связан с атеросклеротической энцефалопатией. Решено: он больше не ест яйца, а кофе пьет без сливок. Вообще-то от кофе тоже надо отказаться. Он не готов умирать, и тем более не готов к превращению в живой труп. Пусть белое вещество его мозга, полное миелиновых волокон, останется чистым, словно первый снег на полях. И от сыра он откажется. Он будет безжалостен к себе, чтобы избежать участи своей матери — ментальной смерти.
— Я часы смазываю соком, — говорит она, — для увлажнения, понимаешь?
Проходит час. Генри встряхивает головой, чтобы прогнать сонливость, и встает — наверное, слишком резко, потому что чувствует секундное головокружение. Дурной знак. Протягивает матери обе руки — и сам себе кажется каким-то гигантом, угрожающе нависшим над ее хрупкой фигуркой.
— Ладно, мама, — мягко говорит он. — Мне пора. Проводишь меня до дверей?
Послушно, как ребенок, она подает ему руки, и он помогает ей встать. Берет поднос с посудой и выносит его из комнаты; затем вспоминает о чайных пакетиках, которые затолкал ногой под кровать, и выносит и их тоже. Если оставить их в комнате, она может ими поужинать. Он выводит мать в коридор, бормоча что-то успокаивающее и ободряющее: для нее это — экспедиция в неведомый мир. Сделав два шага за порог, она забывает дорогу назад. Молчит, но крепко сжимает его руку. В первой гостиной две старухи, одна с седыми волосами, заплетенными в две косы, другая совершенно лысая, смотрят телевизор с выключенным звуком. Из средней гостиной навстречу им идет Сирил, как всегда в спортивном пиджаке и шейном платке; сегодня в руке у него трость, а на голове — фетровая шляпа. Сирил, галантный пожилой джентльмен, предан безобидной фантазии: он воображает себя владельцем большого имения и считает, что обязан каждый день навещать своих жильцов. Никогда Пероун не видел его хмурым или расстроенным.
Увидев Лили, Сирил приподнимает шляпу и говорит:
— Доброе утро, моя дорогая. У вас все хорошо? Жалоб нет?
Лицо ее напрягается, и она отворачивается. На экране у нее над головой Пероун видит демонстрацию: по-прежнему Гайд-парк, огромная толпа перед наскоро сколоченными трибунами, в отдалении — крошечная фигурка с микрофоном; затем — то же самое с вертолета, затем — колонны демонстрантов с плакатами, все прибывающие и прибывающие через парковые ворота. Они с Лили останавливаются, чтобы пропустить Сирила. На экране мелькает дикторша за футуристическим столом, затем — уже знакомые кадры горящего самолета: почернелый фюзеляж, окутанный клубами пены, торчит как верхушка домодельного торта. Полицейский участок Паддингтона: репортер стоит снаружи, что-то говорит в микрофон. Похоже, выяснилось что-то новое. Что же, эти русские пилоты вправду оказались радикальными мусульманами? Пероун тянется к регулятору громкости, но в этот миг Лили говорит громко и взволнованно:
— Если не поливать, он опять свернется. Я же ему говорила! Я ему говорила: полей! А он не послушал!
— Все хорошо, — отвечает ей Пероун. — Он послушает. Я ему скажу. Обязательно скажу. Обещаю.
Так и не решившись включить звук, он ведет ее к дверям. Теперь нужно быть внимательным: Лили непременно решит, что должна идти вместе с ним. Он остановится с ней на пороге, пообещает скоро вернуться — слова, лишенные для нее всякого смысла. Потом Дженни или другая сиделка чем-нибудь ее отвлечет, а он быстро уйдет.