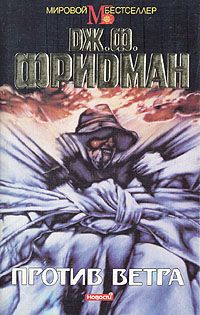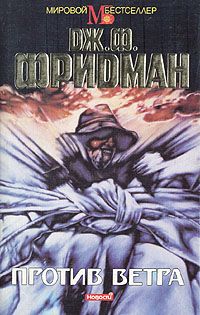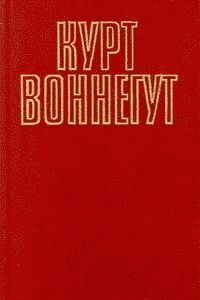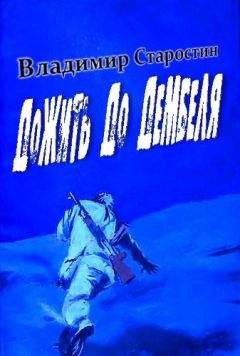Курт Воннегут-мл - Синяя Борода
К каждой фигуре на картине, вне зависимости от размера, прилагается военная биография. Я выдумывал историю, а потом вырисовывал человека, с которым она случилась. Сперва я сидел в амбаре, готовый рассказать любому желающему биографию вот этого или вон того человека, но очень скоро выдохся и сдался. Теперь я говорю: «Смотрите на штуковину и выдумывайте свои собственные истории», а сам сижу дома и только указываю пальцем дорогу к амбару.
* * *
Однако в ту ночь, проведенную с Цирцеей Берман, я с радостью делился с ней историями, стоило ей попросить.
– А ты здесь есть? – спросила она.
Я указал ей на себя, внизу картины, практически на полу. Указал я носком ботинка. Моя фигура была крупнее всех – та самая, размером с сигарету. Я также был единственным из тысяч участников сцены, повернувшимся, так сказать, спиной к фотоаппарату. Щель между четвертой и пятой секцией проходила по моему хребту и уходила вверх через пробор на моей голове. Ее можно было принять за душу Рабо Карабекяна.
– Вот этот, уцепившийся за твою ногу, смотрит на тебя, словно ты – бог, – сказала она.
– У него смертельное воспаление легких. Через два часа он будет мертв. Это канадец с бомбардировщика, сбитого над нефтяным месторождением в Венгрии. Он меня не знает. Он меня даже не видит. Все, что он видит – это густой туман, которого в действительности не существует, и он все время спрашивает меня, добрались ли мы до дома.
– И что ты ему отвечаешь?
– А что ему можно ответить? Я говорю: «Да! Мы добрались! Мы дома!».
– Кто это, в такой странной одежде?
– Этот служил охранником в концлагере. Он выбросил свой эсесовский мундир и влез в костюм, снятый с пугала, – объяснил я. Потом я показал на небольшую группу лагерных узников, довольно далеко от вырядившегося охранника. Некоторые из них лежали на земле. Они были при смерти, как и тот канадец. – Он вот их привел сюда, в долину, и бросил. Он не знает, что ему делать дальше. Любой, кто его арестует, сразу поймет, что он эсесовец – у него на руке татуировка с личным номером.
– А эти двое?
– Югославские партизаны.
– Этот?
– Старшина из полка марокканских сипаев, взят в плен в северной Африке.
– Вот этот, с трубкой в зубах?
– Шотландец, планерист, захвачен при высадке в Нормандии.
– Да они собраны со всего света!
– Вот гуркха, прибыл прямо из Непала. А этот взвод пулеметчиков в немецких мундирах – на самом деле украинцы, перешедшие на сторону противника, когда началась война. Как только до этой долины доберутся русские, они их повесят. Или расстреляют.
– Вот только женщин не видно, – сказала она.
– Присмотритесь повнимательней, – ответил я. – Половина узников концлагерей, как и половина безумцев из сумасшедших домов – женщины. Дело в том, что они перестали быть похожими на женщин. Кинематографическими красавицами их точно не назовешь.
– Не видно здоровых женщин, – поправилась она.
– И снова ошибка. С обоих концов картины есть и здоровые – в каждом из нижних углов.
Мы пошли посмотреть к самому правому краю.
– Боже мой, – сказала она. – Как на витрине в краеведческом музее.
Верно замечено. В нижних углах находилось по крестьянской усадьбе, укрепленной наподобие маленького форта, с запертыми высокими воротами и внутренним двором, куда согнали скотину и птицу. В земле под ними я выполнил схематический разрез, чтобы было видно также и погреб – как экспонат в музее, раскрывающий нам тайны подземных ходов в норе какого-нибудь зверя.
– Здоровые женщины сидят в погребе, вместе с картошкой, свеклой и репой, – сказал я. – Они пытаются как можно дальше отложить свое изнасилование. Они слышали рассказы о других войнах в этих местах и знают, что оно неизбежно.
– А название у этой картины есть? – спросила она, когда мы воссоединились в середине.
– А как же, – сказал я.
– Какое?
Я ответил:
– «Теперь настала очередь женщин».
* * *
– Мне мерещится, – сказала она, указывая на фигурку, притаившуюся в тени разрушенной башни, – или этот военный – японец?
– Именно так, – сказал я. – Пехотный майор. Видите, золотая звезда и две коричневые нашивки на обшлаге левого рукава. Он также при своем мече. Он скорее расстанется с жизнью, чем с мечом.
– Вот уж не думала, что там были и японцы.
– Их там не было, но я решил, что они там должны были быть, поэтому я одного из них туда поместил.
– Почему?
– Потому что японцы не меньше немцев виноваты в том, что мы превратились в сборище воинственных ублюдков – и это при том, что мы совершенно искренне ненавидели войну после Первой Мировой.
– А вот эта лежащая женщина уже умерла? – спросила она.
– Умерла. Она была цыганской королевой.
– Какая толстая. Она что, одна такая? Все остальные – кожа да кости.
– Единственный способ поправиться в Долине Счастья – это умереть, – сказал я. – Ее разнесло, как карнавального толстяка, потому что она мертва уже три дня.
– В Долине Счастья, – повторила она.
– Ну, «Мир на земле». Или «Райские кущи». «Сады Эдема». «Вечная весна». Называйте, как хотите, – сказал я.
– Еще она единственная, кто лежит в одиночестве. Или не так?
– Да, верно. Трупы через три дня начинают весьма неприятно пахнуть. Она была первой из паломников в Долину Счастья, она пришла сюда одна, и умерла почти немедленно после этого.
– А где все остальные цыгане?
– Шумною толпой, в ярко раскрашенных повозках, играющие на скрипках и звенящие в бубны? – отозвался я. – Крадущие все, что плохо лежит – что, кстати, было чистой правдой?
* * *
Мадам Берман рассказала мне о цыганах одну историю, которой я раньше не слышал.
– Они украли у римских солдат гвозди, которыми те собирались прибивать Иисуса к кресту, – сказала она. – Солдаты хватились гвоздей – а они исчезли, как не бывало. Их стянули цыгане. И Христос, и вся собравшаяся толпа – все стояли и ждали, пока солдатам пришлось посылать за новыми. Узнав об этом, всемогущий Господь выдал всем цыганам на свете разрешение воровать все, что им понравится.
Она указала на раздутую цыганскую королеву.
– Она в это верила. Все цыгане в это верят.
– Зря она в это верила. А может, это и неважно, во что она там верила. Когда она в одиночестве добралась до Долины Счастья, она почти умирала с голоду. Она попыталась украсть в усадьбе курицу. Хозяин заметил ее из окна спальни и выпалил в нее из малокалиберного ружья, которое держал под периной. Она убежала. Он решил, что промахнулся, но он не промахнулся. У нее в животе засела маленькая пулька. Она упала вот здесь и умерла. А через три дня прибыли все мы.
* * *
– Где же ее подданные, если она королева? – продолжала расспрашивать Цирцея.
Я рассказал, что даже в зените своей власти она правила от силы четырьмя десятками человек, включая грудных младенцев. По всей Европе шли ожесточенные споры, какие именно народы и народности являлись грязным сбродом, но в одном европейцы сходились: эти ворожеи, эти воришки, сманивающие детей, эти цыгане – враги всего прогрессивного человечества.
Их истребляли повсюду. Королева и ее подданные избавились от своих повозок, от привычной одежды – избавились от всего, что выдавало в них цыган. Днем они прятались в лесах, а по ночам выходили раздобыть себе еды.
И вот однажды ночью, когда королева ушла в поисках пропитания, один из ее подданных, четырнадцатилетний мальчишка, попался на краже куска ветчины у расчета словацких минометчиков, сбежавших из немецких окопов на русском фронте. Они направлялись к себе домой. Их дом был как раз неподалеку от Долины Счастья. Они заставили мальчишку показать дорогу к стоянке цыган и убили всех, кто там находился. Когда королева вернулась, подданных у нее больше не было.
Вот такую историю я придумал для Цирцеи Берман.
* * *
Цирцея преподнесла мне недостающее звено в моем рассказе:
– И в Долину Счастья она пришла в поисках других цыганских семей.
– Точно! – сказал я. – Но во всей Европе цыган почти не осталось. Большинство из них уже согнали в газовые камеры, к всеобщему удовольствию. Так им и надо, воришкам.
Она присмотрелась к мертвой женщине внимательнее и отшатнулась.
– Фу! Что это у нее во рту? Кровь и черви?