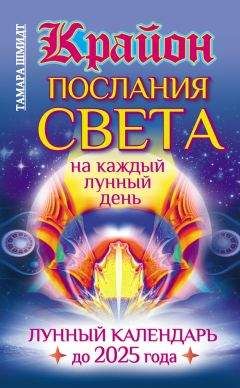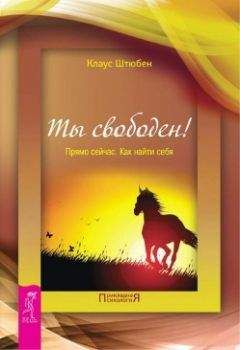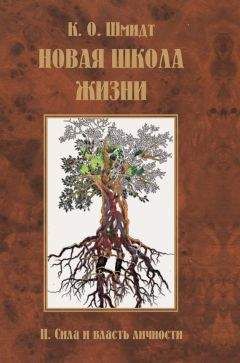Робер Андре - Дитя-зеркало
Как непохоже это на ожесточение, с каким относится к моему нездоровью отец! Моя болезнь — это наша болезнь, против которой мы боремся вместе, и множественное число здесь отнюдь не стилистическая фигура.
Не могу объяснить почему, но эти мысли навеяны воспоминанием об одном способе лечения, пожалуй, даже довольно варварском. Отчаявшись сбить температуру обычными средствами, Пелажи принял неожиданное решение, в котором, надо признать, была своя логика. Он исходил из того, что противником тепла является холод, и посему меня следовало охладить. Оригинальность метода поначалу встревожила маму, но потом она поверила в него и стала готовить мне каждое утро то холодную ванну, то мокрую холодную простыню. Я покидал жаркую, как печка, постель и погружался в наполненную холодной водой портативную ванночку или в ледяную сырость покрывала, в которое меня закутывали. В ванне, прежде чем начать дрожать и клацать зубами, я испытывал некоторое облегчение, может быть потому, что погружали меня туда не сразу, а постепенно, тогда как мокрая простыня сразу вызывала удушье. К счастью, эта вторая процедура бывала недолгой, мама тут же опускала меня на согретое одеяло, обертывала меня в него и энергично через него растирала, быстро возвращая утраченное тепло. Все это она проделывала с такой энергией и энтузиазмом, что, несмотря на шок, я чувствовал, как под ее пальцами постепенно возвращаюсь к жизни, как я, можно сказать, возрождаюсь, а возродившись, я незамедлительно засыпал от усталости, но усталость эта была очень приятна, и мне казалось уже, что жар начинает спадать и что каждый день в воде портативной ванночки или в складках мокрой простыни остается по нескольку градусов, отнятых у болезни. Благодаря этим термическим испытаниям я приобрел первый опыт блаженства, которое доставляют нам перепады ощущений, вернее, я обнаружил, что удовольствие возникает при переходе от нейтрального состояния к положительному, от недомогания к хорошему самочувствию и что желанная стабильность хорошего самочувствия возможна только в соседстве с его противоположностью. И я все больше стремился создавать этот телесный комфорт и всячески поддерживать его, отметая все то, что ему угрожает; лечение холодом укрепило во мне склонности, уже развитые астмой, которая делает наслаждением простую возможность нормально дышать. Сам того не зная, я исповедовал своего рода эпикурейство, извлекая из тесного мирка великое множество пережитых ощущений, можно сказать непередаваемых, в обоих смыслах слова, таких, о которых никому не расскажешь и которые ни с кем не разделишь. Болезнь бросала меня в темницу моего тела, обрекала на задержку умственного развития, поскольку ее симптомы затрагивали лишь самые примитивные чувства, лишь область осязаний, прикосновения, телесного контакта с их пассивностью чувственного восприятия в ущерб восприятиям, более связанным со сферой интеллекта. По мере того как моя прежняя привязанность к матери снова набирала силу, я все больше погружался в растительное существование.
Между тем благодаря принудительным охлаждениям наступил момент, когда хорошее самочувствие, нисходившее на меня после растирания, стало довольно длительным. Температурная кривая резко пошла вниз, амплитуда ее колебаний уменьшилась. Кашель, удушье, хрипы под натиском жизненных сил отступили, сон опять стал глубоким, и, просыпаясь, я чувствовал с удивлением, что дышу уже почти нормально, голова и грудь не болят, что в моем организме наконец распогодилось поело ненастья, и, еще не решаясь этому верить, я с огромной осторожностью проверял свои легкие, я боялся, что недуг не ушел, а лишь задремал, заснул вместе с телом и любое неловкое движение может снова его пробудить. Но нет! Я дышал все так же легко и свободно, и моя разбитость, сама моя слабость были признаком выздоровления. Наконец-то я ожил! — пусть это слово выразит во всей полноте мое ликование.
Я звал маму и восклицал, торжествуя:
— Знаешь, па этот раз я ужо выздоровел! И она радостно провозглашала:
— Мы спасены!
Доктор Пелажи снова меня спас, начинается райская пора выздоровления, первые неверные шаги от кровати, когда еще кружится голова, потом воздушные ванны в кресле перед открытым окном, выходящим во двор, где приветливо сверкает солнце, и я благодарно тянусь к ласке его лучей, я весь полон истомы, я жадно впиваю краски и образы мира, в котором опять все так радостно и прекрасно, и мно кажется, что эта двойная восна наде-лена волшебной властью. Если она одаряет радостью маму, не произведет ли она такого жо действия на отца? Не поможет ли эта единодушная радость вернуть единство нашей семье? Но я требую слишком многого. Теперь, когда мое здоровье больше уже не внушает опасений, мы вступаем, напротив, в период еще более острых конфликтов, и они отравят мне радость выздоровления… Правда, произойдет это не сразу. Ц
Выздоровление прекрасно еще и тем, что будет удовлетворено мое давнее желание не ходить больше в школу. Когда Пелажи осмотрел меня сам и обратился потом за консультацией к бородатой знаменитости, каковая удостоила меня своим посещением, дабы прослушать мои легкие, ощупать мое исхудалое тело и, как всегда, выразить по этому поводу полнейшее удовлетворение, оба доктора высказались в том духе, что посылать меня в лицей было бы неблагоразумно, ибо рецидив болезни может иметь самые роковые последствия. Лучше до наступления лета подержать меня дома. Отставание можно покрыть частными уроками на дому. У меля будет домашний учитель.
Ле Морван и «Платок»
Исполненные почтения к предписаниям медицины, тем более что, исцелив меня столь смелыми методами, доктор Пелажи находился теперь в зените своей славы, родители легко признали его правоту. Выбор репетитора не составил труда и вполне мог унять беспокойство моего отца. Речь шла о школьном учителе, человеке заслуженном и опытном, которого к тому же мы хорошо знали. Ив Ле Морван, супруг сестры доктора Пелажи, согласился давать мне уроки.
Да, год выдается на редкость удачный, он в изобилии расстилает передо мною тропинки безделья и грез! Я должен был бы благословлять свою болезнь, благословлять медицину за исполнение моих давних желаний, за то, что мне снова дозволено вести образ жизни, который я считал уже канувшим в вечность! Возможность поздно вставать, присутствовать при долгом мамином туалете — ведь мама онять проявляет некоторую склонность к кокетству, но она это, право же, заслужила после стольких дней и даже ночей, проведенных подле моей кровати; возможность читать запоем книги из заветного застекленного шкафа, которые приносит мне бабушка, когда она заходит меня повидать и с волнением потолковать со мной о Карнаке; возможность, когда я немного окрепну, занять свой наблюдательный пост перед окном, выходящим на площадь, где по-прежнему проходят пышные похоронные процессии, расцвеченные яркими красками военных мундиров!.. Фантастически щедрая премия за лень, излечиться от которой мне будет так же нелегко, как от астмы, — моя праздность прерывается лишь во второй половине дня, когда ко мне приходит Ле Морван, учитель добросовестный и бесцветный, чьи объяснения я слушаю с покорностью, но, как мне кажется, без особой пользы.
Ле Морван человек робкий, он держится со мной исключительно мягко, с оттенком торжественности. Его мягкость проявляется прежде всего в монотонности объяснений, лишенных всякого энтузиазма по поводу излагаемого материала. Все это погружает меня в дремоту. Когда он спрашивает, все ли мне понятно, я отвечаю утвердительным кивком, и трудно сказать, киваю ли я головой или просто клюю носом. Чтобы ему не перечить, я неизменно утверждаю, что мне все совершенно ясно. Он никогда не испытывает желания проверить, так ли это, за что я очень ему признателен. Я подозреваю, что ему тоже скучно со мной, ибо он часто дает мне большие письменные упражнения но грамматике или длинные арифметические примеры, и, пока я работаю, он погружается в мечты, вздыхает и ковыряет в ушах кончиком ручки. Ибо наставник мой, как вы, должно быть, помните, пишет. Он мечтает, я был убежден, о литературных произведениях, которые продолжает тайком сочинять. Мое убеждение основывается на обрывках разговора, который я слышу, когда урок окончен и наступает пора пить чай.
Это чаепитие представляет для пего настоящую пытку, не только потому, что сидение за чайным столом с моей мамой дает ему гораздо меньше возможностей для отдыха, чем занятия со мной, но и потому, что ему все время приходится оберегать свой секрет. Мама горит желанием прочесть его тайные опусы и оказывает на автора мягкое, но упорное давление. Она приносит посеребренный металлический чайник и красивые чашки тонкого фарфора, которые она любит покупать у антикваров и которые постепенно составят у нас целую коллекцию, и Ле Морван, равнодушный к красивым вещам, следит за этими приготовлениями с явной тревогой. Прежде чем выбрать себе за столом место, он долго колеблется, ибо сидеть напротив хозяйки ому кажется особенно опасным. Примостившись в конце концов довольно неудобным образом на краешке стула, он начинает усиленно потеть в такт со струением душистого пара из носика чайника.