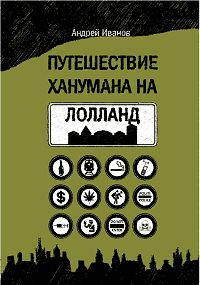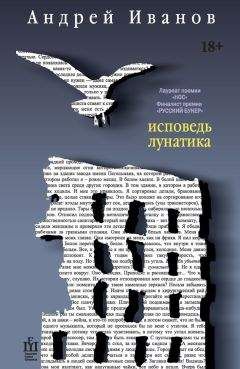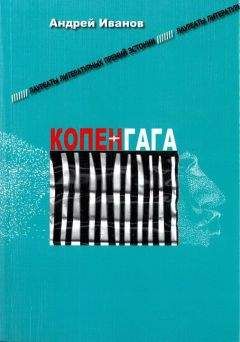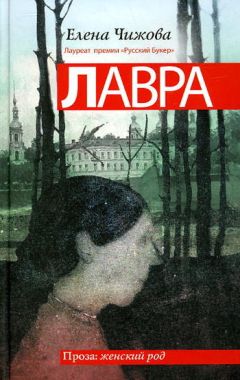Андрей Иванов - Путешествие Ханумана на Лолланд
– Тут тусуются наркоманы, – сказал с важностью в лице бомж и даже с какой-то печалью покачал головой и добавил: – Йо, факинг бяд плэйс ту визит![50]
Я стрелял глазами по сторонам; всюду были люди, все перекошенные, кривые, волосатые, один, в плаще, стоял в сторонке и говорил по телефону с кем-то, всё смеялся, смеялся… Он казался чище и приличней прочих. Мог быть информатором. Я не спускал с него глаз, пока не убедил себя в том, что он натурально смеется, а не притворяется… С них станется… С пасунов… Нет, все было, кажется, чисто, кругом были тихие люди, стукачей, кажется, среди них не было…
Место мне было знакомо. Не первый раз… Там был дешевый туалет. Однажды мы с Михаилом ездили за гашишем и выпили пивка заодно под мостом. На самом деле он все пытался побольше узнать от меня о тех шлюхах из Питера; ему они долго не давали покоя. Мои рассказы его распаляли. Он часто возвращался как к теме блядей, так и к теме амфетамина. Вновь и вновь он меня просил рассказать то, как мы их встретили. Так его волновала та история. В тот раз мы ничего не нашли, потому что я страдал по жизни топографическим кретинизмом, я потерялся и вообще не представлял, в какой части города мы находимся, где был бордель Марио, до или после моста, или вообще по какую сторону моста. Поэтому все кончилось тем, что мы взяли по упаковке пива, Михаил забросил пару раз удочку под мостом, надеясь чего-то поймать. Или просто так. Но вскоре понадобилось зайти в туалет, и мы каким-то образом оказались в нем. Выпуская мощную струю, Михаил попутно изливал мне свои чувства, выпуская вместе с мочой всю накопившуюся в нем желчь, стал говорить, что его тошнит от этой страны.
– Эти датчане, – плевался он в своем пьяном презрении, – зажравшиеся скоты! Меня трясет, когда я вижу витрины! Мне их хочется разбить. Вообще всё на осколки. Всю их страну. Потому что они не заслуживают такой жизни. Скоты, лизали жопу фашистам. Русский многострадальный народ столько жизней положил, столько крови пролил. И ветеран сейчас беззубым ртом пшенку глотает, и то не каждый день! На молоко уж точно не хватает. А эти скоты тут в масле катаются да русского гонят метлой, а арабам вонючим, которые взрывы устраивают, террористам, суки, социал на блюдечке с гуманитарной каемочкой!
Тут он материться начал, да так, что у меня в глазах потемнело. Но нас неожиданно оборвал женский голос, голос произнес на чистом русском:
– А ну у меня не выражаться!
И я себя ощутил на Балтийском вокзале в Таллине; в те времена, когда я еще был мальчишкой и, насосавшись пива, пытался объяснять людям на улице всю прелесть матерной речи; я так вздрогнул, что струю пережало так, что больше не смог возобновить. Это была пожилая женщина, которая уже давно перебралась в Данию. Несмотря на свое образование (даже два) и знание языков (пять), она работала в туалете так называемой туалетной консьержкой. О, ученая дама! Конечно, матерок ее жутко смутил! Он резал ей ухо, к тому же музыкальное! Воспитывалась в профессорской семье, ходила в консерваторию, общалась с бородатыми и высоколобыми аррогантными особями мужского пола, которые считали мат уделом плебеев. Да, вот так, плебеи – такие как я, Ханни, Потапов и Дурачков… Одноклеточные нах! Ну конечно! Ее, должно быть, тошнило от нас. К тому же от нас воняло. В ее до блеска надраенном нужнике мы были просто глистами! Не припасено ли там у нее химического средства, чтоб стереть нас с лица ею надраенной плитки?! Может, пшикнуть на нас чем-нибудь? И мы растворимся… На меня достаточно менту просто кинуть взгляд, и – нет меня! О, что это там у нее? М-м-м, у нее там с собой была всякая снедь! И чего там у нее только не было! Она тут даром время не теряла; унитазы терла да на плитке готовила. Школа эмиграции из нее сделала человека нового типа! Русская смекалка плюс хитрости европейской жизни. Она экономила, она учила язык, она знала все входы и выходы в лабиринте бюрократической системы Дании… Может быть, она знала, что такое Директорат… Может, она даже побывала там – в Директорате… Как жаль, что Хануман ее не видел, он бы упал перед ней на колени и целовал ее скотоподобные стопы! Богиня Парма! Ноги, как ступы. Она не толкла воду. В пожилой дамочке было столько энергии… Ни минуты без дела! На зависть мне, который еле волок ноги и жевал в три раза медленней. У меня точно что-то с печенью, но я проверяться не стану, даже после всего, даже если придется отсидеть, не пойду проверять… К черту! Пожилая женщина в платке с брошью на воротничке нас тогда накормила квашеной капустой и салатом оливье, домашнюю котлетку дала и огурчики, кормила да приговаривала: «Молодые люди, закусывать надо, и не гневите Бога, блюсти чистоту речи и помыслов надо!» Мы чавкали да возносили хвалу – бок у меня трещал от натуги…
У нее на столе были французские и немецкие журналы, местами попадались пометки карандашом; даром время не теряла – факт! Магнитофон с музыкой?.. Как бы не так: опять же тексты, языковые курсы, от А до Я… Она хвалила датчан: «Какие они молодцы! Они историческую ценность своего языка знают! Каждое местоположение каждого знака в согласии с канонами…» – и так далее. Мы проболтали несколько часов. Она состояла в фиктивном браке; какой-то сильно пьющий датчанин, который лечил и никак не мог вылечить печень, черт подери! Он с нее брал деньги. Она ему платила. Осталось немного. Пару лет, и она получит гражданство. Сын ее вышел за датчанку по любви, живут в согласии… Топленое молоко житейской мудрости потекло по устам. Я свернул улыбочку с сигареткой и вышел покурить: не хотел там засиживаться. Не хотел ее видеть. А вот Михаил наоборот: навещал ее всякий раз, когда приезжал в Ольборг. Он ей якобы привозил подарки (позже я узнал, что он ей продавал всякую краденую дешевую дрянь, мерзавец), кушал капу сточку да салатики, жаловался на судьбу, на очередной отказ, на депорт, которым пугают, на то, что денег не хватает, что в лагере жить невозможно, ни спать, ни готовить, ни находиться ни в комнате, ни даже в туалете, за тобой шпионят, в твоих вещах роются, народ грязный, тараканы бегают, болезни по лагерю ходят, вещи стирать невозможно, вода идет с перебоями, сыпь на жопе не заживает, и так далее, и тому подобное…
Вскоре она пропала; устала, наверное, от его визитов; в туалете появился какой-то датский едок в черном сюртучке и кепке с кокардой, он поблескивал натертыми пуговицами и позолоченной шнуровкой на кепке; судя по форме, он был железнодорожным работником в прошлом. Он даже бубнил под нос названия станций. Я два раза заходил, и оба раза мне слышалось, будто он себе под нос произносил названия станций: не то Ранес, не то Хорсенс, хер знает что…
На скамейках мерзли какие-то женщины, все они выглядели полумертвыми. Никогда не думал, что это было столь значительное в жизни города место.
– На этой площади, вон на тех скамейках, – сказал бродяга, – частенько забирают труп…
К нам подошли двое; бродяга с ними по базарил; они закивали и поехали в тот же магазин. Через пять часов у нас было шесть телефонов; каждый был с картой, по которой можно было звонить неопределенное количество времени, до тех пор, пока наркоману не придет счет, пока не закроют его карту…
– Ho ведь об этом никто из людей, покупающих у нас телефон, не будет знать! – сказал мне Хануман и залился смехом.
Мы стали звонить по кемпа, людям, которых Ханни хорошо знал. Он стал впрягать их в бизнес; обещал, что с каждого проданного телефона даст сотню тому, кто найдет покупателя; телефон стоит полторы тысячи; от полутора можно опускать до тысячи двухсот пятидесяти, не ниже! «Позвоню через час…» Меня всегда поражало то, что у всех в кемпах были телефоны. Когда я спросил, откуда они у них, Ханни мне объяснил, что эти телефоны ничуть не лучше простого автомата, стоящего на улице… Ты покупаешь карту, вводишь ее в телефон и платишь сто крон за карту, и она быстро выветривается, ее хватает на десять минут для разговора с Россией, пять – с Индией, одну – с Австралией, дороже всего звонить в Америку, поэтому с этих телефонов невозможно туда звонить вообще, таких карт просто нет!
– Разве что тебе могут звонить… мог бы купить себе такой телефон, твой драгоценный дядя звонил бы тебе, а не на мой мобиле, он меня уже за трахал, потому что я жду важных звонков и всякий раз вздрагиваю, когда звонят, отвечаю, а там твой жантильный родич, мать его… Купи себе телефон, наконец, Иоганн! Я дам тебе денег. К тому же ты ведь у нас русская мафия теперь. А Мафиозо без телефона – это что-то аномальное. Ладно без пистолета, но никак не без телефона!
В Фарсетрупе продавать эти телефоны мы не могли; не плюй в колодец, из которого пьешь! Потому что могли бы начаться проблемы, когда покупатель обнаружил бы, что больше не может не только звонить, но и принимать звонки. Было решено продавать телефоны в самых отдаленных лагерях. Например, во Фредериксхавне. Там мы продали три телефона, по полной цене; богатые пакистанцы, наши старые знакомые, все еще с золотыми цепями и кинокамерами, которые у них еще не украли, купили себе телефоны просто от нечего делать; к тому же у своего, как они считали, у пакистанца.