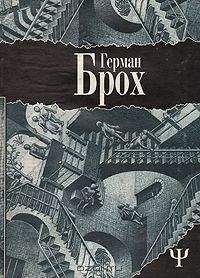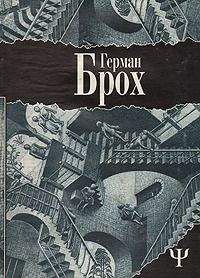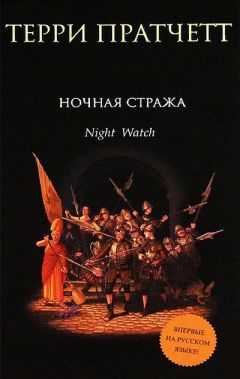Герман Брох - Избранное
Там наверху был ад, геенна огненная. И она была не единственная, а одна из тех, что кипят по всему миру. В Германии их, быть может, больше, чем где бы то ни было, но здесь, как, впрочем, и везде, ад упрятан в безобидную упаковку, и потому исходящие отсюда губительные силы надежно скрыты от посторонних глаз. Ночной город был окутан прохладой, не сулившей ничего дурного, и А. мог спокойно добраться до дома. Чувствовалось дыхание холмов, дыхание всей местности, окружавшей этот город, обжитость и в то же время естественность большой страны. Это край просторных полей и лесов, где окружены заботой и деревья, и дичь, где еще пасется косуля, еще роет землю кабан и где сквозь тенистую сырость несется, когда наступает пора, похотливый крик оленя. Звон колокольчиков оглашает горы: идут стада. Крестьянин вершит свой нелегкий труд, независимо от того, какому правительству его заставляют подчиняться. Не скажутся на этом труде и те адски алчные инстинкты, которые бушуют в его собственной душе. Ни то, ни другое не отвлекает его от работы. В Германии жизнь разумнее и осмотрительнее, чем где-либо, но опять-таки сильнее, чем где-либо, она покоряется в этой стране инстинктам, алчности и адским силам. Она не столь ханжеская, как в других странах, но в то же время более лживая. Ибо странное стремление к абсолюту у немца, кажется, в крови, так что он с презрением отвергает то удачное, пронизанное юмором укрощение инстинктов, которое западному человеку, хотя у того инстинкты проявляются отчетливее, чем у немца, представляется жизненной целью; немцу юмор не свойствен, а если он как-то обнаруживается у него, то это юмор иного типа — причудливый юмор осмотрительного «или — или», характерного для немецкого способа существования с его неуклюжестью и толкающего, с одной стороны, на полный аскетизм, с другой — на разгул инстинктов… Компромиссное решение немец презирает: он рассматривает его как ханжество и лживость, не замечая, что тем самым оказывается виновником еще большей лживости; он не окружает себя ореолом лжесвятости, этим искусственным ореолом Запада, но (что, несомненно, гораздо хуже) идет на явную ложь, объявляя кривду правдой, и во имя все того же «или — или» использует свою воинствующую тупость, выдаваемую за разум, как оружие в борьбе против законных прав гуманного существования, подвергая таким образом насилию самое понятие права. Его честность — это честность насильника, который заявляет, что тихих обманщиков он хочет отучить от лживости, и который именно поэтому чувствует себя благодетелем, а на самом деле навеки обречен вместо блага творить одно лишь зло, потому что его наука — это наука убиения. Неправда здесь, неправда там, и только невероятно узенькая тропа правды проходит посредине, между двумя мирами; хоть она и предначертана немцу, но пройти по ней он не в состоянии: его все время кидает в сторону. Немецкая тропа добродетели? Нет, ошибаетесь, и даже очень, как сказал бы Цахариас, от которого, конечно, тоже укрылась бы истина, а именно то, что это Путь, исполненный муки и страха.
В чем же тут дело? Ответа А. не знал. И что ему до всего этого в конце концов? Незачем было ломать голову. Он добрался до дома и сразу же отправился спать: он это заслужил.
VIII. БАЛЛАДА О СВОДНЕ
© Перевод А. Русакова
Мелитта получила от молодого человека подарок. В ее жизни такого еще не случалось. Его принес и передал ей посыльный из магазина. Это сумочка из хрома, серого с голубоватым отливом; замочек сияет золотом и узенькая ручка — тоже. Сумочка тонкой работы, очень миленькая, Мелитта рассматривает ее со всех сторон; на ощупь она так же приятна, как и на вид. Мелитта едва осмеливается открыть замок. Внутри подкладка, вся из белого шелка. И рядом с маленьким кошельком, рядом с маленькой пудреницей, на крышке которой выгравировано большое «М», рядом с блестящим позолоченным карандашиком и записной книжечкой (и зачем тут эти «Даты»?) лежит письмо, в котором молодой человек спрашивает, может ли он снова ее увидеть и когда. Во всем этом было что-то такое, с чем ей еще никогда не приходилось сталкиваться.
Она ответила бы ему сразу, но ей нужна очень красивая почтовая бумага. На открытках, в которых она сообщает дедушке во время его частых и слишком долгих отлучек, что она, слава богу, здорова, на этих открытках нельзя ни поблагодарить, ни написать что-нибудь стоящее, и она бежит вниз в ближайшую лавочку, чтобы купить превосходную бумагу. Конечно, теперь, когда перед ней лежит прекрасный лист бумаги, все равно толку мало. Она не знает, как начать. Она бы ему сказала, что сумочка лучше всего на свете; она бы ему сказала, что она тотчас — или лучше завтра или даже послезавтра — хочет его видеть; она бы ему сказала, что было бы хорошо, если бы он был здесь, но что это может не понравиться дедушке — хотя почему бы? если он, как часто бывает, вернется из своих дальних поездок неожиданно и увидит в квартире гостя; она хотела бы, хотя ему и нельзя быть гостем, обязательно сказать, что он не был бы обыкновенным гостем и что она все-таки должна встретиться с ним где-нибудь: или у замка наверху, или у вокзала внизу, где он только захочет. Но как все это написать, чтобы было красиво и по порядку? И как сделать, чтобы он на самом деле почувствовал, что она думает и что намеревается сказать? Ах, от сердца к перу такой ужасно долгий путь, и особенно если ты маленькая прачка и пугаешься любой писанины. И, что она ни пробует, все не годится.
Полдня проходит в глухом отчаянье. Начатое письмо лежит поверх сумочки на столе и выглядит все более угрожающе. Она больше не хочет на него смотреть. Но потом к ней приходит спасительная мысль, и она повинуется ей, еще не осознав ее четко. Она вдруг начинает переодеваться. А переодевшись, обнаруживает, что проще всего отнести ему ответ самой и что это надо сделать немедленно.
В воскресном платье, волосы еще влажные и туго зачесанные, с сумочкой в руке, стоит она на улице. Если бы она, когда бегала за бумагой, не была так поглощена письмом, она уже тогда бы заметила то, что замечает теперь: сегодня чудеснейший сентябрьский день, какой она когда-либо видела. Подул прохладный ветер уходящего года, сентябрьский бриз, и под прозрачным, еще летним небом летит по улице светлая прохлада, ластясь к фасадам домов, ласкаясь к людям. Мелитта стоит в растерянности — может быть, поехать к вокзалу на трамвае? Там он живет, и, если она поедет трамваем, она будет там быстрее. Но ведь есть еще сладость промедления, и если его не очень затягивать, то на пороге сладости останется легкий горьковатый привкус, и она решает проделать весь путь пешком.
Почти все время дорога ведет ее через торговый квартал, здесь никогда, кроме только воскресений, не бывает пустынно, а сегодня он кажется еще теснее и радостно оживленнее, чем обычно. А может быть, все эти люди получили в подарок сумочки, видимые или невидимые сумочки, и теперь торопятся поблагодарить дарителей; Мелитта, пробираясь вперед, размахивает своей сумочкой, не только чтобы показать, что она ко всем этим остальным людям тоже принадлежит, но и затем — и это важнее, чтобы все могли увидеть, что ее сумочка — самая великолепная. Иногда она останавливается у витрин, особенно если там есть зеркала, в которых она может рассматривать себя и свою сумочку, а если Мелитта подходит к витрине, где выставлены сумочки — они лежат группами или на отдельных стеклянных подставках, то сравнивает их одну за другой со своей сумочкой, которая, конечно же, всех лучше; хотя все это отнимает время и горькая сладость ожидания обостряется до предела. И теперь, когда она наконец стоит на тихой вокзальной площади, ей бы хотелось еще раз повторить всю игру — так это было прекрасно. Но ведь радостно-зыбкая граница между сладостью ожидания и горечью ожидания уже достигнута; если Мелитта вернется, чтобы еще раз начать игру с витринами, горечь станет невыносимой, и Мелитта не решается на это.
Дом по известному адресу скоро найден. Мелитта слегка разочарована: на дверной табличке стоит не его, а совсем чужое имя, и она совсем смущается, когда дверь открывает не он, а старая седая женщина в накрахмаленном чепчике горничной, смотрит неласково, резко спрашивает, что нужно, и на робкий вопрос о господине А. сразу хочет закрыть дверь.
— Господин А. придет домой только вечером.
— Ох, — вздыхает Мелитта, и слезы вскипают в ее глазах.
— Да в чем дело-то? — Это звучит мягче, и Мелитта снова набирается мужества.
— Я должна принести ему ответ.
— Ответ? От кого?
— От меня.
Старуха в дверях улыбается беззубым ртом:
— Кто же кого посылает? Или вы сами остались дома?
Мелитта непонимающе уставилась на старуху и снова готова расплакаться. Улыбка старухи сменилась усмешкой:
— Так что же там случилось с ответом? Я что-то не понимаю.
Мелитта хотела бы объяснить, но у нее ничего не получается. А ведь объяснить необходимо, она же должна оправдаться, и, так как это для нее очень важно, ее вдруг осеняет: она открывает сумочку, открывает ее очень широко — зачем скрывать то, чем она так гордится? — и протягивает старой женщине письмо.