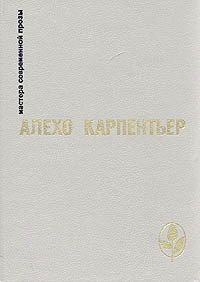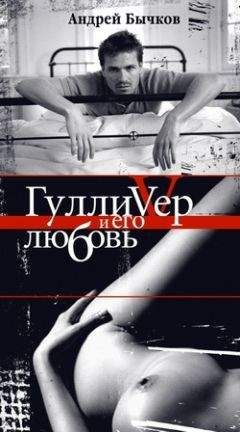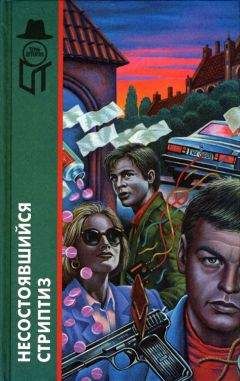Алехо Карпентьер - Век просвещения
Но однажды матросы эскадры особенно обрадовались: пустившись в погоню за португальским кораблем «Ласточка» и захватив его, они обнаружили внушительный груз спиртного, – в трюмах было столько бочек с белым и красным вином, а также с мадерой, что там пахло, как в давильне. Эстебан поспешил переписать все бочки, чтобы таким образом спасти их содержимое от неутолимой жажды корсаров, которые уже успели завладеть несколькими бочонками и торопливо, захлебываясь, пили вино. Укрывшись в темном прохладном трюме, куда не доносился шум споров и ссор, письмоводитель пил в полном одиночестве из вместительной чаши красного дерева, – он прикасался губами к плотной и свежей древесине, как прикасаются к живой плоти, и аромат, исходивший от чаши, смешивался с запахом вина. Во Франции Эстебан научился смаковать чудесный и древний сок земли: этот сок, струившийся из сосков виноградных лоз, вспоил буйную и пышную средиземноморскую цивилизацию – теперь же цивилизация эта продолжалась в Карибском Средиземноморье, где все еще происходило Великое Смешение народов, начавшееся много тысячелетий назад в приморских странах. Здесь, после долгого периода разобщенности, вновь скрещивались расы, различные говоры и физические типы, вновь встречались потомки затерянных по всему свету племен: на протяжении веков они многократно смешивались друг с другом, цвет их кожи не раз менялся, в одно прекрасное утро она светлела и за одну лишь ночь вновь темнела, возвращаясь к прежнему; бесконечно менялись черты их лица, звук голоса, линии тела; такие же перемены происходили и с вином, которое с финикийских кораблей, из погребов Гадеса, из амфор Маркое Сестиос попало на каравеллы человека, открывшего Америку, – оно попало на эти каравеллы вместе с гитарой и трещоткой, чтобы достичь гостеприимных берегов, где должна была произойти трансцендентальная встреча Оливы и Маиса. Вдыхая запах, поднимавшийся от влажной чаши, Эстебан с внезапным волнением вспоминал старинные патриархальные бочки, стоявшие на складе в Гаване, теперь забытом и таком далеком от его нынешних путей, на складе, где вино капало из кранов с тем же размеренным звуком, какой он слышал сейчас вокруг. И вдруг нелепость жизни, которую он все это время вел, с такой ясностью представилась молодому человеку, – он как бы находился в театре, где разыгрывалось нелепое действо, – что Эстебан прислонился к переборке и застыл в оцепенении, с остановившимся взором, словно с изумлением созерцал самого себя на сцене. Все последнее время море, жизнь, полная приключений и опасностей, почти заглушали в нем его собственное «я», – он испытывал чисто животное удовлетворение, чувствуя себя с каждым днем все более здоровым и сильным. Но теперь, взглянув на себя со стороны, он увидел, что стоит среди бочек с вином в еще вчера незнакомом ему трюме и тщетно пытается понять, что же он, собственно, тут делает. Он искал путь, в котором ему было отказано. Он ждал случая, которому, видно, так и не суждено было представиться. Отпрыск богатой семьи, он исполнял обязанности письмоводителя на корабле корсаров – и само название этой должности звучало нелепо. Не считаясь узником, он оказался им на деле, так как судьба его была отныне связана со страною, против которой боролся весь мир. Словно в кошмарном сне, Эстебан видел самого себя на сцене, где он будто спал наяву, одновременно играя роль судьи и ответчика, будучи сразу и действующим лицом, и зрителем; и все это происходило вблизи островов, походивших на тот единственный остров, куда он не мог попасть; возможно, он обречен всю остальную жизнь вдыхать запахи своего детства, встречать дома, деревья, видеть восходы и закаты, какие он видел в отрочестве (о, эти оранжевые стены, синие двери, гранатовые плоды, свисающие через ограду!), и при этом понимать, что все то, чем он владел в детстве и юности, уже никогда не будет ему возвращено… Однажды вечером в их доме раздался грохот большого дверного молотка, послуживший сигналом к демоническим событиям, – они сразу перевернули жизнь трех человек, которые до той поры были одной семьей; все началось с игры: ее участники тревожили могильный покой Ликурга и Муция Сцеволы; затем возникли кровавые трибуналы, вихрь событий охватил город, остров, несколько островов, целое море, и теперь воля Одного человека, ставшего душеприказчиком Другого человека, которого заставили навеки замолчать, грозно нависала над жизнями многих людей. С того дня, когда появился Виктор Юг, – о нем знали тогда только то, что он ходит с зеленым зонтиком, – юноша, который стоял сейчас посреди бочек и бочонков, перестал принадлежать самому себе: отныне его существование, его будущее полностью зависело от чужой воли… А потому лучше всего было пить, чтобы винные пары затуманили беспощадную ясность сознания, столь мучительную в эту минуту, что ему хотелось кричать. Эстебан подставил чашу под кран и наполнил ее до краев. Наверху матросы вновь подхватили хором песню «Три пушкаря из Оверни».
На следующий день французы высадились на пустынном, поросшем лесом берегу, где, по словам лоцмана с брига «Друг народа», было много диких кабанов; лоцман, сын негра и индеанки, уроженец острова Мари-Галант, пользовался у матросов авторитетом, так как превосходно знал эти места. Он советовал пристать к берегу, где били студеные ключи, – в них можно будет охладить вино, достойной закуской к которому послужит копченая свинина. Вскоре охота была уже в полном разгаре, и некоторое время спустя убитые животные, чьи пятачки все еще были судорожно сжаты, как у всех загнанных кабанов, попали в руки корабельного кока и его помощников. Вооружась ножами для чистки рыбы, повара содрали со свиней черную щетинистую кожу, уложили туши на решетчатые жаровни с раскаленными углями, и пока кабаньи спины зарумянивались на огне, их распоротые животы были широко растянуты деревянными колышками. Затем в эти зияющие отверстия, будто мелкий дождь, заструился сок лимона и померанца, градом посыпались соль, перец, душица и чеснок; в то же самое время над толстым слоем зеленых листьев гуайявы, уложенных на пылающие угли, потянулись завитки белого дыма, пахнущего свежестью полей, – казалось, будто свиное мясо окропляют сверху и снизу; поджариваясь, оно покрывалось тонкой корочкой бурого цвета, которая время от времени лопалась с сухим треском; из длинных трещин жир капал на дно ямы под жаровней, он шипел на углях, вспыхивал искорками, и сама земля издавала запах копченой свинины. Когда кабаны были почти готовы, их открытое чрево набили перепелками, лесными голубями, цесарками и другими только что ощипанными птицами. После этого колышки, державшие края распоротых свиных животов, были убраны, и ребра зажаренных животных сомкнулись над дичью, образовав как бы гибкие духовки, стенки которых сдавили содержимое, так что темное и постное мясо перемешалось со светлым и жирным; словом, как выразился Эстебан, получилось «знатное жаркое» – настоящая «Песнь песней» поварского искусства. Вино текло рекой в чаши и в глотки, – захмелев, матросы разбивали бочки ударами топоров, сбрасывали их со склонов, и, натыкаясь на острые камни, бочки разваливались; выстроившись двумя шеренгами друг против друга, люди яростно катали бочки взад и вперед, пока не лопались обручи, разбивали в щепы, дырявили их выстрелами, а какой-то незадачливый танцор, женоподобный и щуплый, кажется, испанец, плававший на судне «Декада» младшим коком, – по его словам, он был другом свободы, – так усердно отплясывал на бочках цыганский танец, что продавил несколько днищ; все очень много выпили и в конце концов уснули мертвым сном под деревьями или прямо на песке, еще хранившем тепло солнечных лучей…
Пробудившись на заре и с трудом расправив ноющее тело, Эстебан заметил, что на берегу уже собралось много матросов; они с удивлением смотрели на корабли, которых теперь оказалось пять, считая и «Ласточку». Вновь прибывшее судно было очень старым и ветхим, фигурное украшение на его носу было наполовину разбито, краска на шканцах выцвела и облупилась, – казалось, что этот корабль явился из былых времен, что он принадлежал людям, которые все еще верили, будто там, где кончается Атлантический океан, начинается Море мрака. Вскоре от его обветшалого борта отвалила лодка, в ней было несколько полуголых негров; они гребли стоя, подбадривая себя гортанными криками, как это делают гребцы, поднимающиеся вверх по течению реки. Один из них, видимо, вождь, выпрыгнул на берег и, отвешивая низкие поклоны, которые можно было счесть проявлением дружбы, обратился к негру-коку на каком-то диалекте: кок, уроженец Калабара, с трудом понимал пришельца. В результате этого диалога, участники которого объяснялись не столько словами, сколько жестами, кок выяснил, что старое судно – испанский невольничий корабль, его экипаж взбунтовавшиеся рабы сбросили в море, и теперь они отдают себя под покровительство французов. На всем побережье Африки было уже известно, что Французская республика отменила рабство в своих американских колониях и негры стали там свободными гражданами. Капитай Бартелеми обменялся рукопожатием с вожаком негров и вручил ему трехцветную кокарду; бывшие невольники встретили это восторженными криками, а кокарда стала переходить из рук в руки. Между тем лодка все перевозила и перевозила на берег негров, самые же нетерпеливые добирались вплавь, спеша узнать новости. И внезапно, будучи не в силах сдержаться, негры набросились на остатки жареного кабана – они глодали кости, проглатывали остатки потрохов, вылизывали застывший жир, спеша утолить невыносимый голод, терзавший их уже несколько недель.