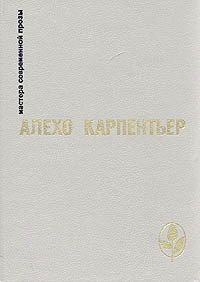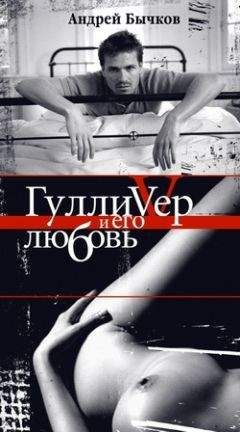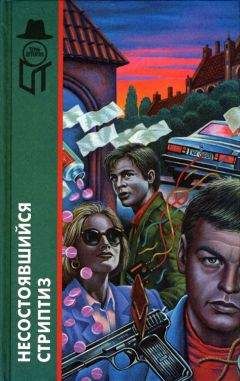Алехо Карпентьер - Век просвещения
Переносясь в мир симбиоза, окунаясь по шею в морские колодцы, где вода вечно клубится и пенится, так как в эти ямы все время низвергаются укрощенные волны, разбитые, растерзанные, раздробленные от ударов о грозный, ощерившийся каменными клыками утес, Эстебан с удивлением замечал, что жителям островов приходилось прибегать к агглютинации, к словесному сплаву и метафоре, чтобы передать двойственность форм причудливых существ, принадлежавших к различным породам и видам. Здесь некоторые деревья и растения имели сложные названия: «акация-браслет», «ананас-раковина», «дерево-ребро», «веник-десятка», «клевер-коротышка», «орех-кувшин», «душица-облако», «дерево-ящерица»; подобно этому, многие морские существа получали составные названия, причем для того, чтобы передать их образ, приходилось соединять самые несочетаемые слова: так возникала фантастическая зоология, где встречались рыбы-собаки, рыбы-быки, рыбы-тигры, рыбы-хрипуны, рыбы-свистуны, летучие рыбы, рыбы с красными хвостами, рыбы пятнистые, рыжие, как бы татуированные, рыбы со ртом на спине или с пастью посреди туловища, рыбы с белым брюхом, рыбы-мечи и колоснянки; встречались тут даже рыбы, прозванные «охотниками за мошонками», – известны были случаи, когда эти рыбы впивались в срамные места мужчин, – и травоядные рыбы, и песчаные мурены все в красных крапинках, особенно ядовитые, когда они наглотаются плодов мансанильо, не говоря уже о рыбе-старухе, рыбе-капитане с блестящей, отливающей золотом чешуею вокруг головы, и о рыбе-женщине – таинственной и пугливой морской корове, которую можно увидеть в устьях рек, где смешиваются соленые и пресные воды, – эти рыбы с повадками женщины и грудью сирены весело резвятся, справляя свадьбы на подводных пастбищах. Однако самым несравненным зрелищем – веселым, гармоничным и грациозным – были игры дельфинов, которые выскакивали из воды вдвоем, втроем, а иногда и целыми дюжинами или, сливаясь с волною, подчеркивали контурами своих тел ее прихотливые очертания. Вдвоем, втроем или целыми дюжинами дельфины как бы водили хороводы: неотделимые от волн, они живут их движениями, с такой точностью повторяя все паузы, взлеты, падения и новые паузы в беге морских валов, что чудится, будто они катят на себе эти волны, подчиняя их определенному темпу и такту, ритму и последовательности. Затем дельфины пропадали из виду, исчезали вдали в поисках новых приключений, пока встреча с каким-нибудь кораблем или лодкой вновь не приводила в волнение этих морских танцоров, которым, казалось, были знакомы только прыжки да пируэты, как бы подтверждавшие мифы, сложенные о них…
Иногда над водами воцарялась гробовая тишина, словно предвещая необычайное Событие, и оно совершалось: на морской поверхности – будто посланец минувших эпох – появлялась гигантская, неповоротливая, допотопная рыба, которую собственная медлительность держала в вечном страхе; ее уродливую голову, состоявшую из пасти и маленьких глазок, едва можно было различить на массивном туловище, кожа чудища была покрыта водорослями и паразитами, как давно не чищенный корпус корабля; морское чудовище, раздвигая мощной спиною бурлящие волны, всплывало на поверхность торжественно, как поднятый со дна галион, как патриарх пучины, как Левиафан, извлеченный на свет божий, и вода вокруг пенилась: эта гигантская рыба показывалась над морской гладью, быть может, только во второй раз с той поры, как в этих местах впервые появилась астролябия. Толстокожая громадина приоткрывала свои маленькие глазки и, заметив поблизости утлый рыбацкий челнок, вновь погружалась в воду, охваченная тревогой и страхом, – она спешила вернуться в спасительное одиночество глубин, чтобы переждать там еще век-другой и только затем опять подняться в мир, полный опасностей. Событие завершалось, и обитатели моря вновь возвращались к своим повседневным делам. Морские коньки копошились в песке, покрытом морскими ежами, сбросившими с себя утыканную иглами кожу: высыхая, она походила на шар такой правильной формы, что его можно было свободно представить себе на гравюре Дюрера «Меланхолия»; чешуя рыбы-попугая переливались на солнце, а тем временем рыба-ангел и рыба-дьявол, рыба-петух и рыба святого Петра исполняли каждая свою роль в торжественной мистерии, свершавшейся на великом театре Вселенского Пожирания, где каждый поедал другого, ибо все тут от века тесно переплетены, спаяны друг с другом и всем уготована одинаковая участь – жизнь в изменчивой стихии…
Некоторые острова были очень узкие, и Эстебан, стараясь забыть о том, что происходило вокруг, в одиночестве отправлялся на противоположный берег, где чувствовал себя полновластным господином: ему безраздельно принадлежали раковины, в которых шумел прилив; принадлежали ему и морские черепахи с топазовыми панцирями, – они прятали свои яйца в ямках, вырытых в песке, а затем старательно закапывали их и разравнивали теплый песок чешуйчатыми лапами; принадлежали Эстебану и великолепные синие камни, которые сверкали на девственных песчаных отмелях, где никогда не ступала нога человека. Принадлежали ему также и пеликаны, совсем не боявшиеся людей, – ведь они их почти не знали; птицы эти степенно летали над лоном вод: важность им придавал раздутый кожистый мешок, они то резко взмывали вверх, то камнем обрушивались вниз, вытянув вперед клюв, на который давила вся тяжесть тела, и сложив крылья, чтобы ускорить свой стремительный полет. Заглотав добычу, пеликан с торжеством вскидывал голову и начинал весело шевелить хвостовыми перьями в знак удовольствия, словно вознося к небу благодарственную молитву, после чего продолжал над самым морем волнообразный полет, который повторял движение морских валов, подобно тому как его повторяли головокружительные прыжки дельфинов. Сбросив с себя одежду, Эстебан растягивался на песке, таком мелком, что самое крохотное насекомое оставляло на нем следы своих лапок: юноше чудилось, будто он один в целом мире, и он весь уходил в созерцание светящихся, почти неподвижных облаков, которые так медленно меняли свою форму, что порою с утра до вечера походили все на ту же самую триумфальную арку или на голову пророка. Полное счастье вне времени и пространства! «Те Deum…» В другой раз, касаясь подбородком свежего листа винограда, он, не отводя глаз, наблюдал за улиткой – одной улиткой, которая высилась, точно памятник, на уровне его бровей, закрывая собою горизонт. Улитка как бы служила посредником между всем изменчивым, ускользающим, текучим, между всем тем, что не подчинялось точным законам и не могло быть измерено, и землею с ее четкими линиями, кристаллической структурой и строгим чередованием явлений, землею, где все можно было ощупать и взвесить. Море, покорное лунным циклам, переменчивое, спокойное или яростное, клубящееся или гладкое, как зеркало, но по природе своей словно бы чуждое коэффициентам, теоремам и уравнениям, породило эти поразительные панцири, которые своими пропорциями и очертаниями символизируют именно то, чего недостает Матери-Земле. В раковине улитки содержатся в зародыше различные сочетания кривых и завитков, подчиненных законам геометрии, конические фигуры удивительной точности, равновесие объемов, почти осязаемые арабески, в них уже угадывается вся причудливая прихотливость барокко. Наблюдая за улиткой – одной улиткой, – Эстебан думал о том, что на протяжении долгих тысячелетий перед взором первобытных народов, живших рыбною ловлей, постоянно находилась спираль, но они еще не способны были не только постичь ее форму, но даже и осознать ее присутствие. Он созерцал похожего на шар морского ежа, спиралевидную раковину моллюска, желобки на раковине святого Иакова и поражался богатству и изощренности Творения форм, открытых невидящему взору человечества, которое не способно было осмыслить то, что представало его глазам. «Верно, и ныне многое вокруг меня приняло четкие и определенные формы, но я не могу постичь их смысл!» – думал Эстебан. Какой знак, какая мысль, какое предупреждение таится в завитках цикория, в немом языке мхов, в строгой форме плода миртового дерева? Созерцать улитку. Одну улитку… Те Deum…
XXV
Когда в первый раз была объявлена боевая тревога, Эстебан не на шутку перепугался и поспешил укрыться в глубине трюма, – положение письмоводителя позволяло ему это; однако вскоре он обнаружил, что каперство – как его понимал командующий эскадрой капитан Бартелеми – в общем-то не было связано с серьезными опасностями. Когда маленькая флотилия встречалась с кораблем, на борту которого стояли мощные орудия, она обходила его стороной, не поднимая флага Республики. Если же захват судна казался делом доступным, легкие суденышки преграждали путь кораблю, а бриг давал предупредительный выстрел. И обычно противник без сопротивления спускал флаг в знак сдачи. Корабли эскадры вплотную подходили к судну, французы прыгали на его палубу и начинали осматривать груз. Если он не представлял большой ценности, корсары забирали все, что имело Для них интерес – не исключая денег и личных вещей перепуганного экипажа, – и переносили на борт брига «Друг народа» то, что могло им пригодиться. После этого униженный капитан вновь получал право командовать судном и продолжал свой путь или возвращался обратно в порт, чтобы сообщить о случившейся беде. Если же груз представлял серьезную ценность, то корсарам надлежало захватить его заодно с кораблем, – особенно когда корабль был в хорошем состоянии, – и отвести вражеское судно вместе с его командой в Пуэнт-а-Питр. Однако до сих пор небольшой эскадре капитана Бартелеми, трофеи которой старательно подсчитывал Эстебан, еще ни разу не пришлось столкнуться с таким кораблем. В этих местах нечасто встречались крупные торговые суда, здешние воды обычно бороздили небольшие парусники, груженные дешевыми товарами, которые никого не занимали. Корсары не затем покинули Гваделупу, чтобы охотиться за сахаром, кофе и ромом, – всего этого и там было в избытке. Однако даже на самых ветхих и убогих судах французы находили для себя поживу: якорь, оружие, порох, плотничий инструмент, канаты, новую карту с полезными пометками – для плавания вдоль побережья Новой Гранады [87]. Кроме того, хорошенько порывшись в сундуках и укромных углах, корсары выискивали для себя и другую добычу. Один забирал две хорошие сорочки и нанковые панталоны, второй – табакерку из эмали или украшенную драгоценными камнями церковную чашу – достояние священника из Картахены; корсары грозились выбросить его за борт, если он не отдаст им «всю обедню» – другими словами, крест и дароносицу, обычно золотые. То были, так сказать, личные трофеи, а потому они не попадали в опись Эстебана, – капитан Бартелеми закрывал на это глаза, так как не желал ссориться со своими людьми, зная, что во времена Республики при столкновении с матросами в проигрыше неизменно оставался офицер, особенно если он, как сам Бартелеми, прежде служил в королевском флоте. Вот почему корма брига «Друг народа» постепенно превратилась в подобие рынка, где происходили купля и обмен различных предметов, разложенных на ящиках или подвешенных на веревках; когда маленькая флотилия бросала якорь в какой-нибудь бухте, чтобы запастись дровами, матросы с «Декады» или «Аврала» являлись на бриг, нередко прихватив с собой вещи для продажи. Чего тут только не было: наряду с платьем, шапками, поясами и косынками встречались черепаховые ларцы для мощей; гаванские халаты с пышными кружевными оборками; ореховая скорлупа, в которой умещался целый свадебный кортеж миниатюрных фигурок в мексиканских нарядах; высушенные рыбы, из пасти которых вместо языка выглядывал кусочек красного атласа; набитые соломой чучела маленьких кайманов; человечки из кованого железа, пляшущие озорной танец кандомбе; шкатулки из ракушек; птицы из леденцов; кубинские и венесуэльские трехструнные гитары; возбуждающие зелья, настоянные на ослиннике или на знаменитых лианах, растущих в Сен-Доменге; было тут множество предметов женского туалета – серьги, ожерелья из стеклянных бус, нижние юбки, набедренные повязки индеанок, а также локоны, перехваченные лентами, изображения голых женщин, непристойные гравюры и даже кукла, наряженная пастушкой: под ее юбками скрывалось миниатюрное шелковистое лоно, выполненное с таким искусством, что все просто диву давались. Владелец куклы заломил за нее неслыханную цену, и матросы, которым она оказалась не по карману, называли его мошенником; Бартелеми, опасаясь, как бы дело не дошло до драки, приказал своему второму помощнику купить фигурку, намереваясь преподнести ее в дар Виктору Югу, – после 9 термидора тот на глазах у всех читал непристойные книги, быть может, желая этим подчеркнуть, что политика Парижа перестала его занимать…