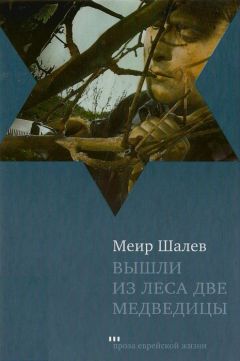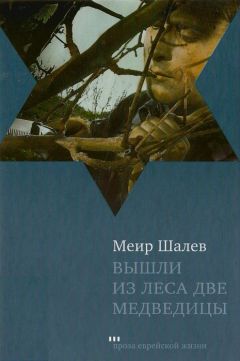И. Грекова - Кафедра
— Ну иди спать. Будильник принеси мне. Поставь на половину седьмого. Дневник оставь, прогляжу.
Тоня принесла будильник, дневник.
— Спокойной ночи, папа.
— Спокойной ночи, Антоша.
Пока Тоня готовилась ко сну, Виктор Андреевич вымыл посуду, перетер, расставил по полкам и сел за стол заниматься. Первым долгом проглядел Тонин дневник, сделав на полях едва заметные птички, понятные только им двоим. Затем занялся английским: ему надо было выписать и заучить очередные сорок слов.
Так он вообще изучал языки. Сперва учил слова по сорок штук ежедневно. Не в алфавитном порядке, а в смысловом: начиная с простых и переходя к сложным. Когда их накапливалось двадцать тысяч, брал книгу и сразу начинал читать. Таким способом он уже одолел французский язык и теперь добивал английский. Произношение его не интересовало: важно было уметь читать. Каждое слово он произносил по буквам, как оно пишется (например, that, у него читалось «тхат», write — «врите»). Выписав порцию слов, он погружался в заучивание. Читал, закрывал глаза, пытался воспроизвести, шевеля губами; снова читал, опять закрывал глаза и так далее. Тень от его головы на стене раскачивалась, как огромная хохлатая птица.
Часа через два сорок слов были усвоены. Виктор Андреевич еще раз прочел их наизусть, подряд и вразбивку, удовлетворенно вздохнул и принялся стелить себе постель. Спал он тут же, в кухне на деревянном диванчике, накрытом байковым одеялом (уверял, что любит, когда жестко). Потушил свет, лег, выгнал из себя лишние мысли. В соседней комнате что-то забормотала Тоня. Виктор Андреевич улыбнулся и стал засыпать, слыша над ухом падающие звонкие капли будильника.
ИЗ ЛИЧНЫХ ЗАПИСЕЙ Н. Н. ЗАВАЛИШИНА
«Чтобы выходила собачка».
Не так давно, навещая Варвару Владиславовну (она болеет), я познакомился с ее давнишним другом, известным режиссером В. Он сед, стремителен, ярок. Первое, что он сказал, войдя в комнату, было:
— Товарищи, час тому назад я бросил курить. Что мне делать?
— Не курить, — глуповато ответил я.
— Разве что так, — сказал он и приложился к руке Варвары Владиславовны.
Она по-старинному поцеловала его в лоб.
— Хворать-то бы, хворать не надо, — заметил он.
— Что поделаешь, годы!
Какая-то милая обыкновенность была в этом разговоре. Тысячи людей уже обменивались точно такими репликами, и тысячи еще будут обмениваться.
Чем старше я становлюсь, тем больше меня трогают банальности. Желание быть не таким, как все, — удел юности. В старости мы хотели бы быть как все, но уже не можем.
За чаем В. много рассказывал о своей жизни, о прошлом (жизнь была более чем пестрая), о театре, об актерах. Время от времени он вынимал из кармана серебряный портсигар, убеждался, что он пуст, и клал обратно в карман. Физическим наслаждением было слушать его речь — плавную, звучную, со старомосковским (ныне редким) произношением. Он, например, говорил «тьвердо», «сьмерть»…
Один его рассказ, о собачке, меня поразил. Попытаюсь его передать как можно точнее.
— Когда-то, — рассказывал В., — живя на Севере, я работал в сугубо провинциальном театрике с очень посредственными актерами. Ставили мы довольно посредственную пьесу. Один из актеров, старик, всегда приходил на репетиции со своей собачкой. После конца репетиции он каждый раз вел собачку в буфет, где угощал ее чем-нибудь вкусным. В течение всей репетиции собачка смирно сидела под стулом хозяина и ждала. Как только репетиция кончалась, она немедленно вылезала из-под стула и выходила на сцену. Как она догадывалась, что репетиция кончена? Очевидно, по тому, что люди переставали говорить деланными, актерскими голосами и переходили на обыкновенную человеческую речь. Случилось так, что в наш городок попал (не по своему желанию) один по-настоящему талантливый актер (назовем его А.). Он был принят в театр и получил роль в той пьесе, которую я режиссировал. Началась репетиция. И что же? Как только заговорил А., на сцену немедленно вышла собачка. Вот, — заключил свой рассказ В., — надо всегда так работать, чтобы выходила собачка.
КОТ-ВОРЮГА
Наши кафедральные бури почти не выходили наружу: кипение шло в пределах одного слоя. Я не раз думала о слоистом строении общества: отдельные слои живут, почти не смешиваясь. Активное общение происходит внутри слоя, соприкосновения с другими эпизодичны. Вот и наша кафедра живет довольно изолированно и мало соприкасается с другими. В институте к нам отношение сложное. Нас, в общем, уважают и даже побаиваются, но на специальных технических кафедрах принято считать, что мы с нашими математическими тонкостями далеки от жизни. Если под жизнью понимать наивную технику с ее, как говорят, «шурупчиками», то, пожалуй, они правы. Если же понимать технику будущего, технику в полете — пожалуй, не правы. Влияние Энэна (вернее, его записок) на меня сказалось покуда только в том, что я чаще, чем прежде, говорю «пожалуй».
Итак, другие кафедры посматривают на нас с уважительным пренебрежением. Впрочем, отчасти и с завистью. За последние годы их охватила какая-то лихорадочная любовь к математике. Любовь, я бы сказала, отнюдь не взаимная. Сейчас любую научную работу (тем более диссертацию) принято облекать в математические одежды. Это хороший тон, латынь нашего времени. Чем сложнее примененный аппарат, тем лучше. Они обвешивают свои работы кратными интегралами, кванторами и матрицами, как в свое время купчихи обвешивались драгоценностями. У нас, профессионалов, наоборот: чем более простым аппаратом удалось обойтись, тем лучше.
Из этого вовсе не следует, что они неучи и в своем деле не смыслят. Напротив, чисто техническая сторона у них, как правило, на высоте. Это дельные, реальные знания, ничего, кроме уважения, не вызывающие. Но когда они пускаются в математику, обычно это выходит так, как если бы, скажем, Семен Петрович Спивак в своих вельветовых брюках стал танцевать партию принца Зигфрида в балете «Лебединое озеро».
Одна из смежных и по названию родственных нам кафедр особенно лихо пустилась за последние годы в математические пляски. Возглавляет ее профессор Яковкин — пухлый, широкий, вальяжный человек со вкрадчивой улыбкой на округлом, книзу оплывшем лице. Звание профессора он получил когда-то давно, без защиты докторской, а по совокупности мнимых заслуг и действительных знакомств. В институте у нас идет кампания за сплошную докторизацию кафедр (именно в качестве доктора был предпочтен Флягин нашему Кравцову). Недавно прошел слух, что всем заведующим кафедрами (кроме языковых, военной и физкультурной) будет предложено либо в срочном порядке защитить докторские, либо расстаться с институтом. Принцип «доктор = ученый» сам по себе достаточно глуп. Например, наш завлаб Петр Гаврилович, великолепно знающий технику, ценнейший специалист, и помыслить не хочет о том, чтобы защищать докторскую: «Что вы, братцы, какой я доктор? По виду никто не верит, что у меня высшее образование». А иные научные ничтожества, не стоящие его ногтя, давно доктора.
В числе других заведующих кафедрами, не имеющих докторской степени, забеспокоился, забил хвостом и профессор Яковкин. Недавно прошел слух, что он собрался защищать докторскую. Полное его невежество во всех без исключения вопросах было общеизвестно, поэтому слух был встречен с сомнением, но оказался верным. Чудеса!
Я этим делом не очень-то интересовалась по причине все той же слоистости общества. Мало ли где, кто и что защищает. Но ко мне пришел Паша Рубакин. Он вообще посещает мой дом, но ходит не ко мне — к Сайкину (что их связывает — неясно). На этот раз он пришел ко мне и, как всегда, начал разговор издалека, туманными наплывами. В сочетании с его потусторонним голосом эта система косвенных подходов к теме всегда меня раздражает.
— Нина Игнатьевна, мне надо с вами посоветоваться по одному очень важному, не только для меня, вопросу, имеющему даже общественное звучание. Вы не против?
— Почему я могу быть против? Валяйте, советуйтесь.
— Дело вот в чем. Нина Игнатьевна, любите вы Паустовского?
— Смотря что. Некоторые вещи люблю.
— Согласны ли вы, что это один из наших крупнейших писателей-юмористов?
— Ну не знаю. Я его как юмориста не рассматриваю.
— И напрасно. Читали вы, например, его рассказ «Кот-ворюга»?
— Не помню. Кажется, нет.
— Обязательно прочтите. Чтобы понять сущность моего дела, вам непременно надо познакомиться с этим рассказом.
— А без этого нельзя? Расскажите своими словами.
— Нельзя. Необходим подлинник.
— Бросьте, — сказала я, теряя терпение. — Где я сейчас возьму Паустовского?
— Я вам его принес, — радостно ответил Паша и вынул из кармана затрепанный томик. — Вот, смотрите, читайте:
«Кот-ворюга».
Недоумевая, я принялась за чтение. Рассказ в самом деле забавный, смешной. Речь идет о вороватом коте, терроризировавшем дачников. Написано славно, свежо, я несколько раз рассмеялась вслух. Рассказ недлинный, я быстро его прочла и спросила: