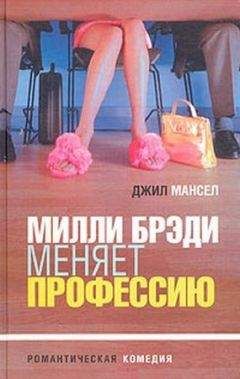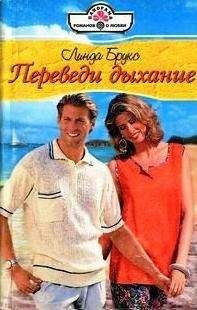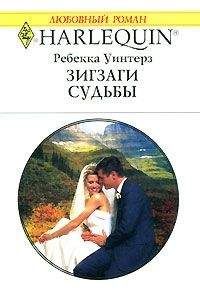He как у людей - Хардиман Ребекка
Новый план, если его можно так назвать, начинает складываться у Милли в голове, когда она в третий раз натыкается на один и тот же дом — номер 49 по Глен-Граунд. От других домов, стоящих бок о бок вдоль дороги, он отличается лишь красным мотоциклетным шлемом, брошенным в саду кем-то из жильцов. Теперь окончательно ясно, что она ходит кругами, что она заблудилась в этом путаном пригородном лабиринте одинаковых бежевых домов с выложенными галькой фасадами, неожиданных тупиков и безликих каменных стен, преграждающих путь чужакам вроде нее. С минуты ее побега мимо не проехало ни одной машины. Ни в одном окне не горит свет, все шторы и жалюзи, кажется, задернуты. Все сидят по домам, кроме Милли. И нужно смотреть правде в глаза: она уже совсем запыхалась, в боку колет все сильнее, и заскорузлый носок больно трет косточку на левой ноге (не говоря уже о шишке у большого пальца) — значит, мозоль лопнула, и значит, ее намерение идти пешком скоро станет совсем нереалистичным.
Милли очень слабо представляет себе, куда двигаться дальше. Ей нужно попасть домой. Что, если постучать в дверь этого дома со шлемом и разыграть роль безобидной заблудившейся дамы, которой нужна помощь? Рассказать какой-нибудь добродушной мамаше или папаше — заспанным, но не чуждым любезности и состраданию, — что она возвращается домой из деревни (из Килдэра, например, — звучит довольно респектабельно), где была в гостях у брата — у него там своя гостиница… Нет, лучше уж пусть будет сестра: с братом они никогда не ладили, это может сказаться на достоверности ее игры. По дороге она, видимо, наехала на гвоздь, колесо спустило. Сказать, что машина ее стоит неподалеку (чуть дальше, отсюда не видно), и не могут ли они одолжить ей телефон, чтобы вызвать такси? И тогда папаша — он, по мнению Милли, скорее откроет дверь среди ночи — с очаровательной клочкастой растительностью на щеках, с мягким лицом, двойным подбородком и типичным для мужчины средних лет брюшком предложит отвезти ее домой, в Дун-Лаэр. По пути он может спросить, где же все-таки осталась ее машина, но она убедит его не беспокоиться — скажет, что утром вызовет буксир.
Милли разглядывает латунный молоточек — копию статуи Анны Ливии с ее безошибочно узнаваемым печальным лицом. На самой двери до сих пор висит искусственная рождественская гирлянда, а поскольку на дворе сейчас середина марта, это, по мнению Милли, указывает на некоторое пренебрежение к установленным правилам — благоприятный для нее знак.
С одной стороны, она понимает, что план довольно сомнительный — опасный, непродуманный, безрассудный, нелепый и, скорее всего, обречен на неудачу. С другой стороны — а что ей еще остается? Не исключено, что охранник в «Россдейле» проснулся, когда колотили в дверь. Агата, может быть, уже обнаружила, что ее нет на месте. Возможно, вызвали полицию. Милли не без гордости представляет, какая там, должно быть, поднялась суматоха. Но этот сценарий, если он действительно разыгрывается сейчас, сулит ей новые проблемы: еще, чего доброго, позвонят Кевину, перехватят ее в Маргите и силой водворят обратно.
Милли тянется к молоточку и тут слышит далекий, приглушенный, но явственный звук автомобильного мотора. Полиция? Милли инстинктивно прячется за живой изгородью. Да сколько же ей еще сегодня по этим чертовым кустам лазить? Машина, судя по звуку, выезжает с соседней улицы, и Милли задумывается, как быть — выйти и попросить подвезти или все же постучаться в дом? Взвешивая в голове оба варианта, она замечает среди корявых корней старую, рваную обертку от шоколада, а на ветвях — детскую туфельку-пинетку, висящую на ленточке. Туфелька оторочена вытертым бежевым мехом и такая крошечная, что и младенцу не всякому налезет — разве что месячному какому-нибудь. Милли, не удержавшись, вызывает в воображении лицо своей давно умершей малышки. Морин, большую часть своей коротенькой жизни проведшая в пеленках, до туфелек так и не доросла — как и до очков, щипчиков для бровей, водительских прав и замужества. А сколько туфель было у нее самой, у Милли — не сосчитать! Горло у нее сжимается, что-то тяжело и резко сдавливает ей грудь. Столько лет она гнала от себя подобные мысли, и вот они, тут как тут — все такие же горькие, полные острой боли, словно только что пробитое пулей тело, все еще бьющееся, истекающее кровью.
Милли берет туфельку, переворачивает ее вверх подошвой и видит штампик: «0–3 мес.». Морин была красивым ребенком — все так говорили, но, конечно, чаще всех и с особой гордостью это говорил Питер. Они с Питером и Кевином выходили погулять у бухты после чая, Милли толкала перед собой коляску — здоровенную металлическую штуковину с огромными, словно у королевской кареты, колесами, — и Кевин по-хозяйски клал на нее свою ручонку. Малышка всегда лежала спокойно во время этих прогулок, но больше всего ей нравилось у мамы на руках. О, гнев этого Крошечного существа, если только Милли не брала ее на руки, был сокрушительным! Сокрушительным и диким как у плохого актера, который ни в чем не знает меры и всегда переигрывает, не разбирая, требует ли сцена драматического накала или тонкой психологической игры. Их с Питером это смешило, и они называли ее «Маленькая мисс». Они только о ней и говорили. А потом не говорили о ней никогда.
Тем зимним утром Милли, как всегда, согрела молоко на плите и, подойдя к кроватке, даже не успев прикоснуться к малышке, почувствовала пышущий от нее жар. Морин вся горела. Милли закричала, позвала Питера и взяла дочь на руки: ее ручки и ножки безжизненно обвисли, но хуже всего были глаза, этот отсутствующий взгляд в никуда. У Милли возникла нелепая мысль распеленать Морин, чтобы она остыла, но это, конечно, не помогло. Через два дня ее крошка испустила в больнице свой последний болезненный вздох, больше похожий на предсмертный хрип.
После этого мысли Милли ходили по одному бесконечному мучительному кругу. А если бы она подошла к кроватке сразу, без бутылочки, а если бы они приехали в больницу чуть раньше, а если бы Питер ехал побыстрее, а если бы Милли кормила малышку грудью? И другие, еще более болезненные вопросы: чувствовала ли Морин, что ее любят, или покинула этот мир, так и не узнав об этом? Теперь, держа в руках туфельку, Милли пытается представить: что было надето на этих чудных кругленьких ножках, неправдоподобно нежных, словно два гладких обмылочка, когда Морин зарыли в землю? Теперь уже никогда не узнать. Она не могла на это смотреть, не могла.
Машина, которую она только что услышала, уже сворачивает на Глен-Граунд. Милли выпускает туфельку из рук и смотрит, как грязная ленточка снова оплетается вокруг ветки. Нет, это не полиция — это серый «Моррис Майнор», такой же, на каком Питер ездил когда-то. Может быть, это знак? Милли выходит на тротуар и машет рукой.
Машина тут же резко тормозит, словно только ее и ждала, водитель в полумраке тянется к пассажирской дверце, открывает ее и распахивает одним движением, как будто боится, что Милли убежит.
— Знаете, не стоило бы вам путешествовать автостопом.
Она всматривается в лицо водителя — это мужчина за шестьдесят, глаза у него все в красных прожилках — не то от усталости, не то от пьянства. Он похлопывает рукой по пассажирскому сиденью.
— Шучу, шучу. Садитесь, конечно, не стойте на холоде.
Глаза у него как-то странно бегают с приборной панели на пассажирское сиденье и обратно — эта манера кажется Милли подозрительной, и она медлит.
— Мало ли темных личностей по улицам шатается. Но со мной вы в безопасности. С большой буквы «Б». Куда едем?
Милли взвешивает все за (дорога пустая, до Маргита можно добраться минут за двенадцать) и против (похититель, извращенец, серийный убийца?).
— В Дун-Лаэр.
38
Пока еще не раздался вой сирены «скорой помощи» и этот день для Эйдин не изменился чудовищно и непоправимо, разговоры в северо-восточном углу хоккейного поля, где курильщицы неизменно собираются по утрам на переменах, идут в основном о приближающихся пробных экзаменах. Шестиклассницы, которым скоро предстоит сдавать настоящие, коллективно писаются от страха. За эти пятнадцать минут свободы некоторые из них успевают высосать по три сигареты, нервно прикуривая одну за другой, и, кажется, не без удовольствия жалуются на головоломные задания: сочинения о коварстве Яго, о рыбных промыслах в Скандинавии, о пятидесяти спряжениях глаголов в plu perfect. Эйдин, Бриджид и другие пятиклассницы с почтительным и сочувствующим видом толпятся вокруг старших, сопереживают их горестям и тревогам и восхищаются их крутостью. О себе они не беспокоятся: у них есть еще роскошный запас времени. В шестнадцать лет год кажется огромным сроком. Впереди весна и лето — кофе, танцы, магазины, пиво, мальчики, путешествия. Море возможностей.