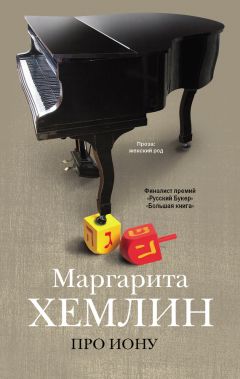Наталья Иванова - Новый Белкин (сборник)
Лев Толстой сказал: «Мы, русские, не умеем писать романов». Он же сказал: «Я горжусь архитектурой Анны Карениной». Эти заявления лишь по видимости противоречат одно другому. Закон в романе явлен. В повести, то есть в русском свободном романе, он скрыт.
В поисках наиболее адекватного, соприродного себе способа художественного высказывания русский язык нашел себя в поэтическом размере – четырехстопном ямбе, и в прозаическом жанре – повести.
О ямбе Ходасевич сказал: «Ему один закон – свобода. В его свободе есть закон».
Это же мы должны сказать о русском романе, то есть – о повести.
Лев Данилкин
Лев Александрович Данилкин родился 1 декабря 1974 года в Виннице. Окончил филологический факультет МГУ (1996) и аспирантуру (1998). Был шеф-редактором журнала «Playboy», литературным обозревателем газеты «Ведомости». Ведет рубрику «Книги» в журналах «Афиша» и «GQ», подчеркивая, что его «нисколько не интересует литературный процесс, ситуация и т п.», то есть что «он книжный критик, а не литературный».
По оценке Бориса Кузьминского, полагающего, что Данилкин «бешено, несуразно талантлив», «это газетно-глянцевый аналог телевизионного Дмитрия Диброва: дибровская доверительно-амфибрахическая интонация, дибровские фирменные – прилагательное в превосходной степени после существительного – инверсии, дибровское фамильярное подъелдыкивание и полновесный PR-комплимент на закуску». Может быть, поэтому, как было замечено в интернетовском «Русском журнале», «Данилкин – сегодня единственный критик, влияющий на объемы продаж».
Был членов Большого (2001, 2002, 2005) и Малого (2003) жюри премии «Национальный бестселлер», является членом жюри премии «Неформат» (2008). Книга «Человек с яйцом» входила в шорт-листы премии «Большая книга» (2007, в рукописи) и «Национальный бестселлер» (2008).
Удостоен Диплома «Дистанционный смотритель» по итогам 2009 года.
КЛУДЖ[1]
Как литература «нулевых» стала тем, чем не должна была стать ни при каких обстоятельствах
Иногда приходится собирать урожай, который не выращивал, что да, то да; однако нулевые получились совсем не такими, какими их представляли.
Вряд ли в 1999-м кто-нибудь мог прогнозировать появление той картины литературного процесса, которая в 2009-м кажется очевидной и естественной: новый отечественный роман – «настоящий роман-с-идеями» – сходит с конвейера каждую неделю; писатели теоретически имеют шанс получить за еще не написанный роман миллиондолларовый аванс; в рейтингах доминируют новинки отечественного производства – а спрос на переводные не растет или даже падает; успех абсолютного аутсайдера Проханова; длящийся второе десятилетие сенсационный интерес к Пелевину; абсолютная мейнстримизация патентованного еретика Сорокина; романы Ольги Славниковой на полке бестселлеров; одержимость литературы идеей государства, империи, диктатуры, опричнины; полное исчезновение из вида Антона Уткина, молодого писателя, которому после «Хоровода» и «Самоучек» прочили очень большое будущее, – и вообще топ-10 современных русских авторов, за одним-двумя исключениями состоящий из имен, о которых в 90-е и не слыхивали: смена, то есть, состава; наконец, кто бы мог предположить, что тот парад курьезов, каким была русская литература вплоть до середины нулевых, кончится тем, что магистральным направлением станет скомпрометированный коллаборационизмом с коммунистической идеологией, очевидно бесперспективный, однако все-таки эксгумированный из провалившейся могилы реализм? Что роман, обеспечивший своему автору самую стремительную за все десятилетие литературную карьеру, будут, в порядке комплимента, сравнивать с горьковской «Матерью»?
В 90-е казалось, что главной характеристикой времени, которая продолжит оказывать решающее воздействие на литературу, будет распробованная еще в перестройку «свобода»: пей воздух свободы, переживай свободу – и пиши свободно. Освобождение от вменявшейся советской идеологией обязанности тенденциозно описывать реальность праздновалось с большой помпой самыми заметными участниками литературного процесса едва ли не целое десятилетие – однако в нулевые уже не надо было быть Прохановым или Максимом Кантором, чтобы понять, что та «свобода», которую навязали обществу вместо советской идеологии, была, во-первых, прошедшим хорошую предпродажную подготовку товаром, а во-вторых, – продуктом тоже идеологическим. Никогда еще так часто не воспроизводились в литературе разговоры о том, что нет никакой свободы, кроме свободы быть мещанином и воспевать мелкобуржуазные ценности, как в литературе начала XXI века. Да, многие воспользовались этой возможностью, однако пошлость такого рода гимнов потреблению рано или поздно ощутили даже те, кто дольше всех упорствовал в своих заблуждениях. Главной коллизией литературы нулевых стало переживание отказа от свободы, опасности свободы, преимуществ «несвободы». Если уж на то пошло, «бунт внешний ничего не даст. Бунт должен быть внутренним, направленным внутрь, такой силы, чтобы кишки распрямились. Только тогда у нас появится шанс стать собственными детьми – детьми своей мысли, – когда мы решимся стать иными», – как сказано в одном романе, о котором еще пойдет речь.
Что касается образа будущего, каким его видели в 1999 году, то и он также радикально не совпал с тем, что произошло на самом деле. На полном серьезе (хотя ситуация в прозе отличалась от ситуации в поэзии, где в конце 1990-х любой текст автоматически калибровался по «шкале Бродского») многим казалось, что вся дальнейшая литература будет «литературой после Сорокина»: после принудительных мероприятий по искоренению мессианских комплексов и амбиций никто больше не станет сочинять толстые традиционалистские романы «про жизнь», а читатели больше никогда уже не будут обманывать себя иллюзией, будто «маленькие черненькие буковки» имеют хоть какое-то отношение к реальности. Представлялось, что тон в русской литературе будут задавать Акунин и процветающий под его патронажем «Клуб беллетристов»: профессиональные писатели, квалифицированно обслуживающие досуг буржуа во все более просвещенной европейской стране; менее склонные к жанровой игре авторы, научившиеся копировать «британский стиль», конструируют утонченные психологические евророманы, очищенные от идеологии и снабженные импортными сюжетами-моторчиками, – тогда как романы авторов, страдающих – на манер Лимонова – дефицитом фантазии, демонстрируют читателю сознание новоиспеченного русского citoyen du monde, ироничность бытия, обаяние вестернизации, плоского мира, проницаемости границ.