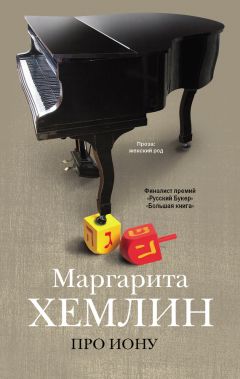Наталья Иванова - Новый Белкин (сборник)
После так парило, что изнуренная Мария еле шла. Мысль, что идти, в сравненьи с пройденным, недалеко, еще и раньше времени разленивала; Мария чуть ли не впервые испугалась: не дойду. Однако не сдавалась, ковыляя на отекших, будто не своих, ногах, уже не позволяя им хотя б на миг остановиться. Чтобы забыть о том, что впереди, и перестать завидовать себе, уже вернувшейся, уже отъевшейся и отомлевшей в родном, пусть и чужом, углу, – Мария занимала себя перечнем детей, когда-то подопечных ей в яслях. Перечень был не слишком длинным, но до Черехи, как прикинула Мария, если о каждом вспоминать подробно, его должно было хватить. Она подробно вспоминала, волоча ступни, о Лопотухине, Симакине, Косилове, о Карповой Наташе и о том, как пришивала, что ни день, лямку Помозину Сереже; о Розенцвейг, о рахитичных Холминых-двойняшках, о жирном Вырвине, о Бурщиной, о карантине из-за свинки у Алфимкиной, и как Зевакина, не Оля, а Марина, бросалась кашей, хныкала, визжала, всегда отказывалась есть, все норовила поцарапать тихого Булавкина... как его звали: Миша? Митя? Леша? – Мария так и не сумела вспомнить, сбилась, и это не прибавило ей бодрости.
Ненастье набухало долго; дыхание в духоте давалось так же трудно, как ходьба. Когда Мария наконец увидела дома Черехи, хлынул ливень, но дышать не стало легче. Теплые потоки, падая, выдавливали воздух; хватая ртом его остатки, Мария миновала мост через Череху и, мокрая, вошла в Лопатино. Едва она, подавшись влево, побрела по улице Советской Армии вдоль берега Великой, ливень утих, и снова стало парить. К Промежицам Мария выбилась из сил, но вечер, надвигаясь вместе с тучами, принес с собою новый воздух – сил не прибавилось, но свежесть поманила, и Мария смогла дойти до Рижского железнодорожного моста. Здесь она упала и долго отдыхала, глядя снизу скуки ради на будку на мосту, на вохровца с ружьем; вновь встала на ноги, скуля от новой боли в них, прошла под мостом, в его сырой тени, и свернула на Вокзальную...
...От площади вокзала до дому рукой было подать, но тут Марии стало боязно и зябко. Она нащупала в кармане мокрую монету в две копейки – все, что осталось после траты в Пушкинских Горах, затем нашла единственный на всю вокзальную округу телефон-автомат, схватила за руку какого-то пугливого подростка в белой бобочке, жующего песочное пирожное, вручила ему двушку и попросила набрать номер, не сразу вспомнив его вслух последним в этот день усилием памяти.
...Отец отправился в прихожую, снял трубку с аппарата на стене, сказал: «Але», послушал, морщась и потряхивая трубку, потом закрыл ее ладонью и закричал нам из прихожей:
– Тихо всем! Не слышу ни черта! А ну, всем замереть!
Мы неохотно замерли.
Отец опять приставил трубку к уху, послушал ее, молча возвратил на рычажок и, подняв кверху палец, произнес:
– Она.
– ...
И все бы было хорошо: жила б Мария с нами долго, на свой лад счастливо, могла бы и состариться при нас, подобно няньке моего приятеля С-ва, с годами ставшей как бы его тетушкой и как бы бабушкой его детей, но на свою беду Мария снова повстречала Теребилова. Где повстречала, как – никто не знает толком; Псков город невеликий, немудрено и повстречать кого ни попадя; нам достоверно лишь известно, что Мария, две ее, как и она, татуированные подруги, уже допившие в тот день все, что нашли на нашей кухне, старик Григорий, Теребилов – однажды пили белую в котельной на Поземского. Там было жарко, топка разгоралась все сильней, и перебравший Теребилов, распалясь, стал выговаривать Марии за ее, как он сказал, приплюснутость и мрачно принялся, злясь на нее, жалеть ее:
– ...Ты с ними на жилплощади живешь? Живешь, все это знают... Живешь ты с ними постоянно? Постоянно, это каждый подтвердит, и мы, где надо, подтвердим... Прописана у них ты временно?
– Вроде так, – ответила ему Мария.
– Ах так! И это – справедливо? Ты в своем праве требовать от них, чтоб прописали постоянно.
Мария испугалась:
– Для чего?
– Ты что, не хочешь, дура, чтоб у тебя была своя жилплощадь?.. Сколько у них комнат?
– Две, – подсказала одна из подруг. – В третьей Лисюченковы, семья, но их не видно: он все на северах, в командировках; она гуляет...
– Пусть две, – смирился Теребилов, – по совести одна уйдет тебе; и заживешь.
– И на кухне место будет, чтоб никто не прикасался, – заботливо зауверяла пьяную Марию другая ее подруга, – и своя конфорка на плите, и счетчик... Дед, я верно говорю?
– Положено, – кивнул старик Григорий, наливая. – А если будут сильно против, намекни, что в горсуде по-ихнему не будет.
Мария слушала, дурея в духоте и поддаваясь; даже увлеклась:
– Они не будут против, я их знаю: люди воспитанные, термос подарили, я им как родная, я им для верности скажу: глядите у меня! Я в своем праве – у людей спросите, вон, все люди говорят, а люди зря не скажут! Я и с судьей Веретьевой знакома – Светланочку ее в этих яслях когда еще сажала на горшок!..
Внезапно все затихли, и Мария осеклась: в котельную вошла та тетка-хохотушка из Пушгор – уже не хохоча, уже без клипс, в серебряных сережках с позолотой; ни на кого не поглядела и мрачно обратилась к старику Григорию:
– До хаты не пора? Одной мне ужин жрать?
На этом разговор был кончен, и Мария была уже готова позабыть о нем. Она, добравшись до дому, хотела промолчать, лечь тихо спать, потом, проснувшись, жить, как прежде, – но там, на улице, ждал результатов разговора Теребилов, а на кухне все хихикали в ладошку две подруги, приведшие ее домой под локотки.
Мария не смолчала: мялась поначалу, потом, храбрясь, вошла в кураж...
– Мария Павловна! – пеняла мать, страдая. – Скажи, зачем ты это делаешь? Зачем ты так? Ну разве этак можно? Ну разве мы тебя обидели хотя бы раз?..
– Глядите у меня! – мотала головой Мария. Отец молчал и хмурился. Затем прогнал ее подруг, велел всем отправляться по постелям, Марию утром не будил – дал ей проспаться. Когда проснулась, усадил ее обедать, но она почти не ела, так, клевала – и тогда, убрав ее тарелку со стола, отец ей с сожаленьем объявил:
– Придется нам расстаться.
Она ушла. Когда это случилось: до того, как Пролетарский стал Октябрьским проспектом, или после – где ж мне помнить? Я тридцать с лишним лет живу в Москве, я в Пскове не бывал лет десять, я на не признанной Марией могиле не был все пятнадцать лет!.. Теперь там, на Святой горе, мне говорят, живут монахи: бьют в колокол, поди, когда им нужно, каждый день – не то что раз в году в июне, и по совсем другим делам... Что до Марии, то она не возвращалась. Я не запомнил от нее, кроме того, что рассказал, почти что ничего. И фотографий не осталось, чтобы я мог вспомнить в ней не только грузность тела, но и глаза. Зато я помню книжку стихов с автопортретом Пушкина на обложке из картона – по ней и научился я читать еще до букваря и первых школьных троек. Не потому, что в доме не было другого Пушкина – но этого не жалко было мне отдать на растерзанье... Должно быть, он пропал при переезде на новую квартиру у театра, или в Москву, иль при мытарствах по Москве – обычный сборник, отпечатанный in quarto Учпедгизом, Госиздатом иль Огизом на рыхлой серенькой бумаге; на ней еще видны были разводы высохшей воды. Там было сочиненное в псковской ссылке: «К Языкову», «К ***», «Под небом голубым страны своей родной», «В крови горит огонь желанья», «Сожженное письмо», «Вакхическая песнь», «Зимний вечер», «Храни меня, мой талисман»... Там были: «К морю», «Демон», «Ночь», «Кинжал», «Во глубине сибирских руд» и «Арион». Там был «Пророк». Там были: «Памятник», «Элегия», «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «Из Пиндемонти».