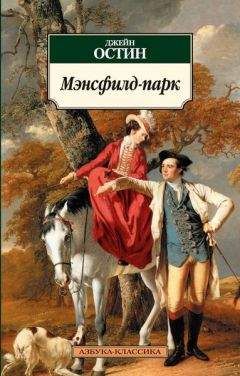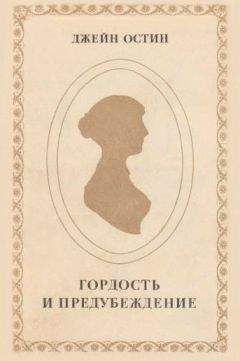Инга Петкевич - Плач по красной суке
— Это не щука, а лещ, — залепетала сконфуженная Аллочка.
— Сама ты щука, настоящая щука! — гаркнула Клавка под хохот зрителей. — Схватила щучка леща, схавала, падла, под шумок! Один скелет остался!
— Это не лещ, а судак, — внесла деликатную поправку Глафира Борисовна и покраснела в смятении, как девочка.
— Нечего мне мозги пудрить! Это не судак, а еврейская рыба «фиш». А это, — Клавка ткнула пальцем в Аллочку, — это не лещ, а щучка!
Так заработала наша тихая хищница прозвище Щучка, которое прилипло к ней намертво.
Между тем Аллочка, возмущенная и оскорбленная хамским Клавкиным выпадом, демонстративно переметнулась в еврейский лагерь. Вкрадчивым яростным шепотом она уже что-то доказывает Глафире Борисовне, Виктории Яковлевне и Норе Соломоновне. Те вежливо, с непроницаемым видом слушают ее горячие доводы, но явно не выражают сочувствия и не принимают хищницу в свой лагерь. Старые, опытные интеллигентки, они наверняка знают ей цену, и, может быть, больше, чем нам всем, им стыдно за свою кровную сестру. В еврейском лагере ведь тоже большое расслоение.
Две благородные, породистые бестужевки, техническая и литературная редакторши, — они живут среди нас особняком, по законам иной реальности. Им давно пора на пенсию, но они работают. Воспитанные в другой системе координат, они не могут не работать. Общаются они только между собой и в свои дела нас не посвящают. В их личной жизни все идет своим чередом: удачные дети давно удачно женились и народили им удачных внуков.
Конечно, в последнее время они малость озабочены и озадачены новыми возможностями: ехать или не ехать? Кое-кто уехал, но большинство осталось. В свете новых течений им неуютно и тревожно сознавать свою избранность, но они держатся молодцом: не паникуют, не жалуются, не склочничают. Они не русофилы, которые, подозревая всех в жидовстве, лишь грызутся между собой за лучшее место возле кормушки. Нет, может быть, именно евреи особенно сознают и понимают, что родина их здесь. У других народов нет права выбора, а у евреев есть. Им тоже ничего не светит — будущее их темно и неопределенно, — их понемногу теснят и шпыняют, но они остаются тут, на родине. Влюбленные в русскую культуру, искусство, историю, они живут прошлым и могут оказаться тут единственными хранителями его традиций. Есть что-то трогательное в приверженности евреев русской культуре. Навряд ли их можно заподозрить в неких тайных помыслах — без любви у них бы не получилось так хорошо. А если они кое-что не так растолкуют и донесут до потомков в искаженном виде, то обвинять надо не их, а саму русскую нацию, которая окончательно и бесповоротно завралась, проворовалась и одурела. Ну а Щучка Аллочка была местечковой полукровкой, а полукровки у нас особенно подвержены порче и разложению.
Невзрачная, бесполая летучая мышь, мелкий хищник-грызун, она обставляла и делала нас на каждом шагу. Мы то и дело залетали в ее мелкие ловушки, уступали ее тихой, застенчивой наглости, пасовали перед ее натиском. В ее щучьих повадках был даже какой-то своеобразный почерк и артистизм. На особо крупные аферы она, разумеется, не тянула, действовала по мелочам, исподтишка, тихой сапой, но всегда без осечки и наверняка.
Не очень-то интересно рассказывать про нее, ничего такого выдающегося не припомню. Все мои конфликты с ней носят такой мелкотравчатый оттенок, что просто лень их перечислять.
Ну, допустим, захожу я однажды в столовую, голодная, вялая, заторможенная. С тоской и отвращением разглядываю скудное меню: тарелочки с винегретом, засохший сыр, проявляющуюся на свету колбасу и прочую дрянь. Машинально стою в длинной очереди, а когда она подходит, обнаруживаю, что все стояли за какими-то пакетами с полудефицитным набором: пара банок сгущенки без сахара, пара банок сосисочного фарша, сахарный песок и лавровый лист в придачу. Машинально беру сомнительный набор и тут же понимаю, что у меня не остается денег на обед. А тут, как назло, из кухни выносят громадный поднос дымящихся золотистых эскалопов. Стою, и даже слюнки текут от голода, а в кармане только двадцать копеек. Оглядываю очередь — ни одного знакомого. Можно, конечно, попробовать всучить буфетчице Клавке этот никчемный пакет обратно, но она такая горластая и склочная, что просто нет никаких сил с ней связываться. В другое время я бы, может, и рискнула, но тут от голода и бессилия совсем скукожилась. Обреченно взяла стылый чай да булочку и потащилась к ближайшему столику. Сижу и чуть не плачу от голода: дымящиеся эскалопы из головы не выходят.
И тут как раз подваливает к моему столику наша Аллочка — она всегда так тихо и неназойливо подсаживается за чужой столик, не ожидая приглашения. На сей раз я ей даже обрадовалась. С ходу предлагаю перекупить у меня злополучный пакет, тем более что в буфете они уже кончились. Она спокойно забирает его у меня и начинает обстоятельно разглядывать содержимое. Разумеется, оно не приводит ее в восторг, но все-таки берет. Я с нетерпением жду денег и с вожделением поглядываю в сторону раздачи — эскалопы уже кончаются, но еще можно успеть. Скажу, что я только что тут стояла, — может быть, удастся схватить парочку без очереди.
Но Аллочка и не думает расплачиваться. Тщательно упаковав набор и спрятав его в сумку, она спрашивает, нет ли у меня для продажи какой-нибудь хорошей осенней обуви. Я действительно вспоминаю, что у меня есть туфли, которые мне малы, и обещаю привезти их на службу. Я прекрасно знаю, что Аллочка очень не любит расплачиваться сразу: должников своих она подолгу морочит, отдает долги по трешке, а последние рубли и вовсе заматывает, но мне так хочется горячего мяса, что я готова пообещать ей что угодно, лишь бы выудить из нее свою драгоценную десятку. Аллочка важно кивает, расспрашивает о качествах моих туфель и поднимается к выходу… На прощание она последний раз окидывает меня своим цепким взглядом, который всегда означает только одно: что бы еще такое можно заодно с вас поиметь. Аллочка все и всегда делает заодно. Идет, положим, в гости и заодно сдает в винном магазине несколько бутылок. Зайдешь к ней по делу — она заодно всучит вам мусор, чтобы вы по пути выкинули на помойку… В обеденный перерыв она заодно успевает сделать так много дел, что все только диву даются. К тому же почти каждому она дает мелкие поручения: кому купить заодно масло, кому сахар, кому тортик. Сама она для других ничего заодно не делает.
На этот раз, стрельнув у меня заодно двухкопеечную монету для автомата, она стремительно покидает меня, обдумывая на ходу, как бы повыгодней использовать последние десять минут обеденного перерыва.