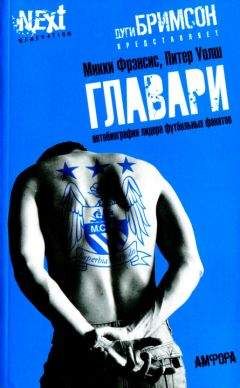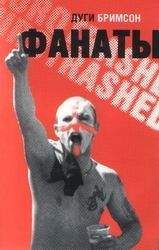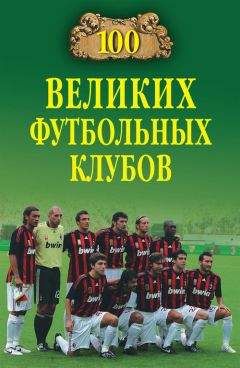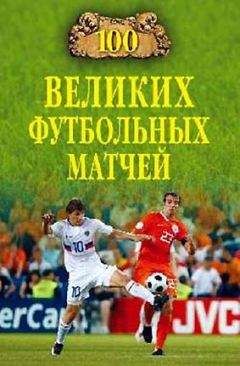Роман Сенчин - Русские (сборник)
— Транспорта в части нет и не будет. Дорога от воинской части есть, но по ней почти никто не ездит. Пешком до точки вашего назначения 315 километров. До ближайшей трассы 30.
— Там же останутся в поезде места! — сказал мужчина, но офицер наконец вдел голову в фуражку и, скомандовав: «В колонну по одному!» — первым поспешил к составу, ни с кем больше не разговаривая.
Срочники, словно стесняясь, шли меж пассажиров. Пацан смотрел на их бритые головы и вспоминал ромашки с оборванными лепестками.
По одному, как муравьи, срочники вползли в состав и беззвучно пропали.
— В часть не положено! — отругивался неподалёку толстый и очень потный прапорщик. — Не положено! Военный объект!
Из нескольких дверей состава выглянули быстрые лица проводников.
Прошипев, состав закрыл двери и медленно тронулся.
Пацан поспешил вниз, опасаясь остаться наедине со всеми этими людьми.
Уже внизу он обернулся и увидел, как несколько человек тоже поползло вниз. У кого-то оборвалась тяжёлая сумка и стремительно заскользила по траве — потом поймала кочку и, подпрыгнув, начала скакать во все стороны, ударяясь разными углами.
Из окна избы было заметно, как люди идут по завечеревшей улице.
Пацан выискивал глазами девочку, но никак не мог найти.
Зато всё попадалась тётушка, которая с трудом волочила чемодан на колёсиках, а тот залезал в лужу, и там колёсики уже не крутились.
Тётушке помог один человек, второй, третий — а сумка снова вредничала и норовила в грязь.
Кто-то поспешил к магазину, который конечно же был закрыт.
По нескольку человек останавливалось возле каждого дома. Больше всего возле тех изб, что смотрелись строже, чище, больше. У Дудая встали многие, у Бандеры многие, и возле избы, где жил пацан, — тоже.
Стояли и смотрели в окна.
Пришедшие молчали — будто не были уверены, что селяне поймут их язык и вообще обладают речью.
— Москва пришла, собирай ужинать, мать, — засмеялся отец.
Полоса
Сергей Шаргунов
Он каждое утро ходил по грёбаной полосе и наступал на плиты бережно, как на надгробия.
Грёбаной полосу называла дочь, очевидно, ей было неловко при отце употреблять более резкое слово. Она предлагала отцу из таёжного посёлка переехать к ней в Пермь, но он говорил:
— А она? Куда ж я без нее…
— Что она тебе, жена?
— Может, и жена, и родня… Я же это… за ней слежу, как за кладбищем. Осенью завалит её ветками — разгребаю, летом кошу, где трава лезет, зимой снег чищу. Ты меня знаешь: я без дела не умею. И вообще, человек упрямый. Работаю и о тех, кто помер, вспоминаю. Как будто все они в одном месте лежат, а я им… это… покой обеспечиваю. И на всякий случай работа.
— Какая работа? Кому она нужна? Чокнулся ты, папка, — нежно говорила Таня и гладила его по голой голове.
У него голова была голая, выпали все волосы, но висели подковой седые усы. Был Алексей Петрович Соков худ, лёгок и с маленькими голубыми глазами — яркими, как у маньяка.
Полтора километра бетонки тянулись последним смыслом для Сокова и заканчивались непролазным болотом. Ему было шестьдесят три, жил на пенсию в посёлке, где осталась сотня человек. Половина из них когда-то была у него в подчинении, но теперь никто не хотел помогать. Команда, которая рядом, живет вокруг годами, но не признаёт больше капитана. Только Антон Антоныч, коротышка, иногда помогал. Если сильно напивался — гордо и с песнями. А трезвый помогал тайком — или затемно, или ближе к сумеркам.
Здесь был аэропорт, и Соков был его начальником. Пятнадцать лет назад отменили самолеты и полосу, оставили площадку для вертолётов, сократили штат. Так большинство подчинённых стали безработными — кто уехал, кто остался и недобро следил за тем, как дело Сокова погибает. Восемь лет назад уволили всех, объект исключили из реестров. И с тех пор в ведении Сокова — рядом с его домом — остались и площадка, и полоса. Дом разрушался, надо было менять крышу, ставить новое крыльцо, но Соков всё отчаяннее отдавал себя делу — под открытым небом.
Утром, покружив на площадке, уходил вышагивать по полосе, как журавль. Даже при славной погоде бетонка блестела, потная. Она всё время крошилась, разделялась на плиты. Однажды в мае, ближе к концу, к болоту, он нашёл мертвого волка. Тощего и тусклого. Оттащил и завалил листьями. Правильно было бы ходить с ружьём, опасно же, но Соков предпочитал таскать что-нибудь другое — зимой лопату, летом косу, — утешая себя, что и этим отобьётся, если нападет зверь.
А земля под ветхим бетоном напрягалась, он это чувствовал, хотела сбросить поклажу — давно не нужную. Соков сам был такой поклажей на земле. Жена умерла три года назад. Алексей Петрович знал свою вину в её смерти. Надо было убраться из этих мест, она ведь в спокойствии нуждалась. Она слишком беспокоилась. Ругала по-всякому. Говорила, что он позорит себя и её перед соседями: «Лучше сдохнуть и не видеть стыд такой!» — и повторяла даже: «Лучше бы ты пил, а не идиотничал!» Она без конца называла Сокова сумасшедшим. И вот умерла. Во сне. Обычно громкая, оставила тихо.
По утрам, вышагивая бетонкой, Соков всё чаще напрягал глаза и вчитывался под ноги, словно ждал, что увидит надгробную надпись «Сокова Галина Викторовна, 1945—2008».
Дочка Таня выросла и уехала в Пермь. Работала там в музее, но не простом, а современного искусства. Заявлялась раз в полгода, звонко смеялась, тормошила, несколько инструментов привезла, чтобы легче было нянчиться ему с полосой. И хоть смеялась, всё время выходила на крыльцо и курила. Соков качал голой головой: «Замуж бы тебе», — и подозревал то, о чём и соседи судачили: «Танька у него проститутка». Как-то раз она показала ему серию открыток, где высовывалась из люка надувного резинового танка с лицом, раскрашенным ярко-ало, как в клюкве. Корпус танка был полупрозрачным, светло-зелёным, и Соков, щурясь, спросил: «А ты чего там в танке? Голая?» «Почему? В бикини», — мигом зарозовев, пробормотала Таня, спрятала открытки в дорожный баул и больше не доставала.
С тех пор как объект отменили, все оживились, торопя события: чтобы поскорее земля показалась свободная. Оживилась природа. Несколько раз полосу заливало так, что она полностью сливалась с болотом, и Соков думал даже, что её потерял. Но солнце творило чудеса, бетонка опять выступала, хотя, конечно, приходилось особенно потрудиться, расчищая от мути и гнили. Зимой Соков раз в месяц нанимал мужика из другого поселка, проставлялся, и тот, озорно его матеря, сражался со снегом и льдом на своем тракторе. Летом повадились грибники. Эти чужаки ставили свои машины на полосе, а то и на площадке. Соков выскакивал из дома:
— Ехай отсюдова! Щас ребят позову, они вам покажут! Мне ружье принести, а? Это объект, понял?
А вдруг самолёт, и чего?.. Тебе на башку сядет, да?
Слюна прыгала у него на губах, глаза горели так электрически ярко, что грибники предпочитали не связываться с психом. Он махал руками страстно и длинно, зачерпывая небо, точно призывал самолет немедленно опуститься.
Было и такое: тогда жива была жена, дочка жила с ними и ходила в ближний посёлок в школу, и работала ещё небольшая, но команда, и на площадку ещё иногда садились вертолёты, — приехали бандиты. Соков говорил с ними, тремя, отдельно, в конце полосы, где начинались топи. Они разговаривали с ним, загадочно пританцовывая.
— Сухо, — полувопросительно сказал главный, круглоголовый и безволосый. — Сухо у тебя. Зачем землица, сука, пропадает? Глупо, земеля. Мы ж в Коми или не в Коми? Сам знаешь, нет земли. А у тебя есть.
Мы бетон сковырнем и строиться будем, ты усёк?
Сослуживцы видели издали: Соков в мольбе задирал руки и размахивал руками, точно крыльями (может, отгонял мошкару?), пританцовывал каким-то своим танцем, он и в танце хотел переспорить гостей. Его толкнули, упал. А трое прошли к большой машине, стремительно и молча, и с дикой скоростью умчали. Соков шёл медленно и хромая, и рукав его отекал вонючей болотной жижей, и все начали готовиться к худшему, но никто не вернулся. Вероятно, собирались вернуться, но им помешала какая-нибудь разборка, и они навеки сгинули где-нибудь среди болот. Зато Соков в тот же месяц начисто облысел и головой стал, как тот главный бандит, который требовал отдать сухую землю, без пользы покрытую советским бетоном. И ещё Соков укрепился в деле. Он стал будто бы жрецом отменённой веры, который хранит священное пространство, ожидая сошествия божества.
…Осенним днём 2010-го, накануне чуда, Антон Антоныч помогал Сокову как всегда по пьяни. Опьянение давало соседу сил и желания общаться с Соковым. Антоныч пел, бормотал, уходил далеко, и приближался, и даже обнаружил бревно, которое столкнул в заросли, прочь:
— Вот! Лежало! Это разве дело? Порядок нужен!
А то мало ли…
Соков не отвечал.
Они убрались и разбрелись — каждый к себе.
В тот день Соков лег спать рано. Спал беспокойно, с перерывами.