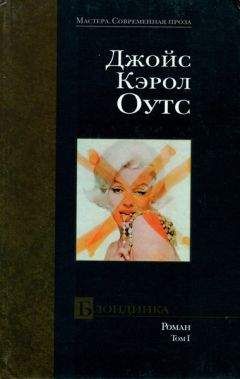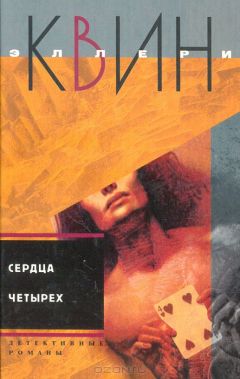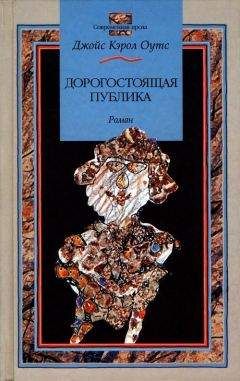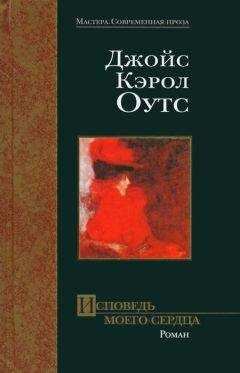Джойс Оутс - Блондинка. Том II
В Америке отец Драматурга устроится на работу: сначала в авторемонтную мастерскую в восточной части Нью-Йорка, затем — в мясную лавку в Хобокене, потом — торговцем обувью в городке Рэвей, и, наконец, ему неслыханно подфартит. Он приобретет лицензию, дающую право торговать стиральными машинами и сушилками марки «Келвинейтор» в магазине на Мейн-стрит, в том же Рэвее; в 1925-м он уже полностью откупит этот магазин у бывших владельцев, чем обеспечит себе солидный и постоянно растущий доход вплоть до 1931-го, когда все рухнуло. Как раз к этому времени Драматург оканчивает последний курс в университете Ратджерса, в Нью-Брансуике. Банкротство! Несчастье и нищета! Семье Драматурга пришлось распрощаться со своим домом в викторианском стиле и с остроконечной крышей, что стоял на тихой тенистой улице, и переехать на самый верхний этаж здания, в котором продавались стиральные машины и сушилки, которые, кстати, теперь, в разгар депрессии, никто не желал покупать.
Отец Драматурга начнет страдать от высокого артериального давления, колита, сердечных приступов и «нервов» и прострадает так всю свою долгую и несчастную оставшуюся жизнь (протянуть ему удастся до 1961-го). Мать Драматурга наймется работать официанткой в кафетерии, потом получит должность врача-диетолога в местной средней школе — и все это вплоть до года чудес, или 1949-го, когда ее сын, начинающий драматург, вдруг продаст свою первую пьесу на Бродвее, где она будет пользоваться бешеным успехом, а затем получит свою первую Пулицеровскую премию и увезет родителей из городка под названием Рэвей. Навсегда. Сказка со счастливым концом.
Сон под названием «возвращение обратно», преследовавший Драматурга, был обставлен декорациями тех лет. Он открывал глаза и с неприятным удивлением замечал, что находится на кухне, в тесной маленькой квартирке, на самом верхнем этаже магазина, что на Мейн-стрит. Неким непостижимым образом кухня и магазин сливались в единое целое. Стиральные машины стояли в кухне. Время сместилось. Драматург не был мальчиком, способным прочувствовать горе и позор семьи, не был он и выпускником университета Ратджерса с мечтами стать вторым Юджином О'Нилом. Но и сорокавосьмилетним писателем, с юностью, оставшейся за плечами, с неотвязным страхом перевалить пятидесятилетний рубеж, он тоже не был.
Во сне, на кухне, Драматург разглядывал выстроившиеся строем стиральные машины. Все они работали и ужасно шумели. В каждой бурлила грязная мыльная вода. И еще этот характерный запах засоренных канализационных труб, ржавого водопровода. Драматурга начинает тошнить. Он давится. Это всего лишь сон, и он, похоже, понимает, что это сон, и в то же время обстановка столь болезненно реальна, что он совершенно потрясен и убежден, что это может случиться в жизни. А на полу, рядом с ревущими машинами, валяются разбросанные вперемежку бумаги его отца, какие-то счета, и его пьесы и материалы к ним, и грязная вода выплескивается из машин и заливает бумаги. Драматург должен спасти их. Это ведь так просто, однако приступить к делу мешают страх и отвращение. Он должен преодолеть эти чувства, ведь он — сын своего отца, и для него дело чести помочь своему больному слабеющему родителю.
И вот он нагибается и изо всех сил старается подавить рвоту. Старается даже не дышать. Он видит: вот его рука шарит по полу, пытается ухватить лист бумаги, какую-то желтую папку с документами. Но едва успевает поднести спасенные бумаги к свету, как видит, что все они промокли насквозь, чернила размылись, документы и материалы погибли. Неужели «Девушка с льняными волосами» тоже среди них? «О Господи, помоги нам!» Это не молитва — Драматург не религиозен — это скорее звучит как проклятие.
И тут Драматург просыпается. Сразу и резко. И слышит свое частое хриплое дыхание. Во рту сухо и кисло, он скрипит зубами от отчаяния. Как же хорошо снова оказаться в уютной постели, одному, в красивом кирпичном доме на 72-й Западной, вдали от городка Рэвей, штат Нью-Джерси. И никогда, ни за что больше туда не возвращаться!
Его жена в Майами, навещает пожилых родственников.
Весь этот день сон о «возвращении обратно» будет преследовать Драматурга. Как отрыжка после недоброкачественной пищи.
5Я знала эту девушку, Магду. Нет, мной она никогда не была, просто сидела внутри. Как Нелл. А может, еще крепче, чем Нем. О, она вообще гораздо сильнее Нелл. Она бы ни за что не рассталась со своим ребенком; никто не смог бы отнять у нее ребенка. Она бы родила своего ребенка прямо на голом дощатом полу, в холодной, неотапливаемой комнате, и заглушала бы свои крики ковриком.
И кровотечение пыталась бы остановить обрывками тряпок.
А потом ухаживала бы за ребенком, нянчила его. И груди у нее большие, как у коровы, теплые, и из них сочится молоко.
6Драматург подошел к столу проверить, целы ли бумаги. Ну конечно, «Девушка с льняными волосами», вот она, лежит там, где он ее оставил. Свыше трехсот страниц отрывков, набросков, примечаний и вставок. Он поднял все эти бумаги, и на стол выскользнул один из пожелтевших снимков. Магда. Июнь 1930. На черно-белом снимке — привлекательная белокурая девушка с широко расставленными глазами. Смотрит на солнце и слегка щурится, густые волосы заплетены в косы и уложены короной вокруг головы.
7У Магды действительно был ребенок, вот только не от него. А в пьесе — от него.
Нетерпеливый, словно молодой любовник, хотя уже давно не молодой, Драматург лихо взбежал на четвертый этаж по металлической, заляпанной масляной краской лестнице. В продуваемый сквозняками репетиционный зал на углу Одиннадцатой авеню и 51-й улицы. Он был так возбужден! Так взволнован! Он даже задыхался. И перед тем как войти в просторное помещение, навстречу шуму голосов и смутному морю лиц, вынужден был остановиться, немного отдышаться и успокоиться. Взять себя в руки.
Он теперь не в том положении и состоянии здоровья, чтобы бегать по лестницам, как мальчишка.
8Я так боялась! Я была не готова. Почти не спала ночью. То и дело бегала писать. Никаких таблеток не принимала, только аспирин. И еще одну, противовоспалительную, которую дала ассистентка мистера Перлмана, чтобы горло не болело. И еще казалось, что Драматург взглянет на меня всего разок, тут же отвернется и заговорит с мистером Перлманом, и все, конец, я вылетела из труппы! Потому что я еще не заслужила этого — быть здесь. И прекрасно это понимала. И вообще все знала заранее. Я прямо так и видела, как спускаюсь по этим ступенькам. В руках сценарий, и я пытаюсь читать строки, подчеркнутые красным. Те, которые сама подчеркнула, а сейчас словно вижу их в первый раз. И единственной отчетливой мыслью была следующая: сейчас зима, и если я провалюсь, то замерзну. Замерзну насмерть. Зимой легко умереть, ведь правда?..
9Драматургу не понравится, это все знали. Все, кроме него. Он ни за что не согласится, что Блондинка Актриса, приглашенная в труппу на прослушивание, подходит на роль его Магды.
Ему назвали имя. По телефону. Произнесли неразборчиво. Говорил он с директором труппы, Максом Перлманом. И Макс своим обычным торопливым нервным говорком заявил I пс. Драматургу, что тот знает всех в труппе «за исключением, пожалуй, одной актрисы, которая претендует на роль Магды. У нас она новенькая. И в Нью-Йорке появилась совсем недавно. Нет, раньше я с ней ни разу не встречался, но несколько недель назад она вдруг заходит прямо ко мне в офис. Снялась в нескольких фильмах и теперь говорит, что по горло сыта всем этим голливудским дерьмом и мечтает стать настоящей актрисой и считает, что этому можно научиться только у нас». Перлман сделал паузу. То была типично театральная манера, паузы в речи имели столь же колоссальное значение, что пунктуация для писателя. «Честно говоря, она совсем не дурна».
Драматург был слишком занят своими мыслями, после сна о «возвращении обратно» осталось ощущение униженности и полной беспомощности. К тому же он испытывал тяжесть в желудке, а потому не стал просить Перлмана повторить имя этой женщины или рассказать о ней немного подробнее. Ведь это будет всего лишь предварительное прослушивание в «Нью — Йоркской труппе актеров театра», компании, с которой Драматурга связывали вот уже двадцать лет плодотворнейшей работы, а не какое-нибудь там открытое или публичное прослушивание или репетиция. На него приглашены лишь члены труппы. И никаких аплодисментов не предполагается. Так к чему было Драматургу просить своего старого друга Перлмана, к которому он не испытывал особой личной теплоты, но которому абсолютно доверял во всех вопросах, касавшихся театра, повторять имя этой мало известной актрисы? Особенно если она не из Нью-Йорка? Драматург знал и признавал только Нью-Йорк.
И потом мысли его были слишком заняты! В голове у Драматурга постоянно происходило кипение мыслей, они роились и жужжали, как комары, зудели непрерывно, и в часы бодрствования, и даже иногда во время сна. Во многих своих снах он продолжая работать. Работа. Работа! Ни одна женщина на свете была не в силах компенсировать ему это. Лишь нескольким женщинам удалось заполучить его тело, но ни одной — душу. Его жена, долго ревновавшая, теперь перестала ревновать. Он почти не обратил внимания на уход жены из своей эмоциональной и духовной жизни, лишь иногда отмечал про себя, что она стала чаще отсутствовать, навещать родственников.