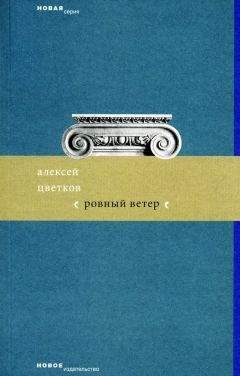Вера Галактионова - Спящие от печали (сборник)
– Скажи! Голубь – святая птица или нет? По-моему, у вас – так святая она. А наш, советский, он – голубь мира был! Вон там у нас жил, в сарае. Мы его кормили, а он – кто? Ваш – или наш – с пути-то сбился? И семью свою истребил… Объясняй мне! Не понимаю я!
Мельком глянул в окошко Порфирий, без всякого любопытства, ответил рассеянно:
– То был голубь мира сего. Забудь.
– Какого мира?
– Такого… Голубь мира этого, оступившегося, во греховную тьму погружающегося стремительно.
– А жить нам как тогда в нём? По-доброму? Без вреда?.. Чтобы всем, всем уцелеть? Мне правильный рецепт нужен! Верный!
Но, потягивая носом, Порфирий какой-то чёрный клок себе на рясу нашивал, орудовал толстою иглой – и никакого ответа.
– Из тьмы в одиночку выбираются? Или бригадой? Или не выбираются совсем? – допрашивала Порфирия Тарасевна всё строже, настойчивей.
Утёр Порфирий рукавом зябкую прозрачную сопельку, понурился, да и стал наливать вино в стакан Тарасевны. И вот глядит она на тонкую алую струйку, глядит. До половины красен стакан, а там и на три четверти багров, вот уж совсем он полон и чёрен стал почти. Молчит Порфирий и своего занятия не прерывает. Молчит и Тарасевна, опешив от происходящего. Через край льётся дешёвое терпкое вино, на свежую скатёрку её, выстиранную с хозяйственным мылом и прокипячённую в старой кастрюльке до полной, ослепительной белизны, а бродяжка всё льёт!..
Вскочила наконец Тарасевна, вскричала, как ужаленная, после времени, глядя на огромное красное сырое пятнище:
– Да что ж ты всю бутылку извёл? Что ты скатерть мне испортил, изгваздал всю, негодник! Я тебя для дела звала! Для разговора важного! А ты что, дурак?!. До седых волос дожил, а ума не нажил. Хулиган ты, а не поп! Хулиган какой-то…
– Прости, матушка, – поднялся и Порфирий. – Кто я есть без смирения? Истину говоришь: хулиган – голова садовая… Прости.
– Стой! Жить народу – как?! Наозоровал, а сам… Не сказал ведь ничего!
Замешкался Порфирий:
– Откуда я знаю? Меру во всём постичь сумеешь, вот сама всех и научишь, как жить. Только уразумеешь смысл слова: «хватит», и сразу советов тебе не понадобится чужих, моих же – тем более. Зря, что ли, меня пристойные люди от себя прогоняют? Нет, не зря… Сказали: пока смирения не обрету, чтоб к умным не совался. И вот, который десяток лет я его выпестовываю, а не даётся мне оно, грешному. Был хулиган – хулиган остался. Вон как скатёрку твою испачкал! Прости… Слово «хватит» запомнила, нет? Или ещё, вот, слово есть. Не слабей оно этого: «довольно». Сумеешь ли распознать, когда надо его произнесть? Когда пора настала? Главная то премудрость… А чей же ребёночек там захныкал? Соседский, что ли?
– Ну! За стенкой проснулся… Обещалась за ним приглядеть, пока мать в магазин сбегает, да вот, с тобой, долгогривым балаболом, тут разговоры пустые веду. И зачем я тебя в окошко увидала?!. Нет, сколько вина зря извёл! Я его для зятя берегла, когда исправится он. При ломовой тяжёлой работе была бы ему здесь утешительная рюмочка… Эх, ты! Хулиган…
* * *Убежала Тарасевна к ребёнку, принялась качать детскую коляску. Только Саня плакал всё пуще.
– А дай-ка ты его мне на руки, воина Христова, – стоит уж рядом с Тарасевной Порфирий в пыльной своей поддёвке, холодно пахнущей ветром, волей, полынным горьким семенем… Полынным ветром, холодной волей, горьким семенем…
– Ещё чего!
И оглянуться она не успела, как подхватил бродяга дитя малое, стал покачивать, по комнате с ним расхаживать. Насторожилась Тарасевна, вслушиваясь: что это он ребёнку смолкшему бормочет? Да не поняла она толком ничего, а часть слов и вовсе не расслышала.
– … Хотя достойно совершити подвиг, возложенный на тя… Облеклся еси во вся оружия… стал на брань противу миродержателей века сего… препоясав чресла своя истиною и облекшись в броню правды…
– Погоди! – забеспокоилась Тарасевна, принимая младенца от Порфирия. – Ты чем его успокоил?
– Прочитал, что на ум пришло. Он и притих. Песен-басен положенных колыбельных совсем я не знаю, не исполняю их. Тороплюсь, прости…
– А матери его что мне сказать?
– Скажи только: воин – здесь пребывает, а Спаситель – там, над нами. Быстрой дорогой воин к Нему идёт… Или ничего не говори. И без меня всему научены будут, в положенный-то срок. Что я? Пыль на ветру, да… Ходячий прах… Ничего не говори!
– И правильно, – укрывала Тарасевна младенца с заботою. – А то ещё ругаться она станет. Схватил чистого ребёнка чужого, бродяга ты мотущий… Тут ведь и за попа-то настоящего тебя не считают…
– Так и есть. Мних есмь, мних презренный Шаталкина монастыря…
Раскачивается спящий вагон, задувает в окно тёмный ветер с мокрым запахом дубовой коры. Стучат колёса: дух, дух. Дух, дух… Волнуется Порфирий, не спит. Совсем близок он к цели, да только примет ли его, бродяжку, обитель святая?.. Его, смирения не обретшего, мудрости не набравшегося, молельщика никудышного… Осталось через пару часов на вокзале сойти, в электричку сесть. А там и купола золочёные, древние просияют ему, неразумному шатуну из далёких Столбцов. Скоро уж. Скоро рассветёт…
* * *Из-за резкого холода, полонившего тёмные Столбцы этой ночью, в камере предварительного заключения все топачаны были свободными – ни пьяных, ни буйных, ни порезанных, ни увечных: мирная тишина, скучная темень. Только с поста дежурных милиционеров падала полоска тусклого света от китайского керосинового фонаря, стоящего на столе, и доносилось негромкое бормотанье одного из них, разгадывающего кроссворд, да слабый храп другого. Но уставшему Ивану, укрывшемуся синтетической шубой «из чебурашки», всё не спалось, хотя и ночь уж была на исходе. Одно и то же виденье открывалось перед ним, от которого он сразу приходил в себя. Было оно словно не из его жизни, со смыслами отвлечёнными, сокрытыми в глубине сна и не подвластными рассудку человека совершенно. От них, смыслов тревожных, пугающих, начинала трещать черепная коробка – будто скорлупа ореха, в которую надлежало вместить океанические водные глубины…
Боясь одной и той же странной картины, он мотал головой, потирал лицо руками и старался сбить дрёму напрочь размышлениями обыденными и простыми. Не о Нюрочке, оставшейся в ночи без его пригляда, хотелось ему думать, нет: от этого тоскливая тревога подбиралась к самому сердечному узлу и подпиливала его у основания – если не рашпилем, то надфилем как минимум. А всё, от чего недоучившийся автомеханик Иван Бирюков мог ослабеть здоровьем, ему не годилось – в том не было толка ни для кого. И он лишь вздыхал и ворочался, уводя своё вниманье совсем к иному, что находилось поблизости.
Вот, топчаны в камере куцые, короткие. Привинченные к полу, они отстояли далеко друг от друга – так, что сдвинуть их для удобства никак бы не получилось. И ноги приходилось держать поджатыми к животу, либо свешивать их ненадолго к дощатому холодному полу… Надо было надеть толстые вязаные носки. Но кто же знал, что эта ночь – ночь перелома на страшный мороз, и что именно теперь в Столбцах отключится и свет, и тепло.
* * *…Самым лучшим из обыденного было то, что задержанный с водкою Иван Бирюков хорошо знал повадки здешних бандитов. Он уже дважды за позднюю осень легко обошёл их, подкарауливавших его под глиняным козырьком оврага. Некурящему и непьющему, ему просто было уловить плывущий над степью по ветру пряный запах анаши либо сигарет и загодя сделать крюк, оставаясь незамеченным на огромном пространстве пустыря. Скоро он обучит Саню ощущать любую опасность издалека, с чуткостью, превышающей волчью…
И даже если, приглядевшись, прислушавшись, принюхавшись, не обнаруживал Иван Бирюков никакой угрозы, то и тогда, с тяжёлыми сумками, в которых предательски позвякивали бутылки с водкой, выбирал он всякий раз путь новый, не повторяясь.
В своих походах к Панне Ионовне, забиравшей поклажу лишь в конце дня, Бирюков был осторожен особенно. Лишь от барака он шёл открыто, до камня-валуна, а дальше двигался, слегка пригибаясь, по незначительным вымоинам от пересохших весенних протоков и ручейков, пробирался неслышно за жидкой грядой кустарника, мимо троп и дорожек, следя за тем, чтобы длинная вечерняя тень его не вылезала на открытые места…
Подрастая, Саня научится так же проходить невидимым для чужих глаз там, где, казалось бы, трудно остаться незамеченным даже бурому мелкому степному лису, выскочившему из бурых спасительных зарослей, чтобы перебежать через пустырь.
* * *По-настоящему опасны бывали только вечера. Под покровом же ночи раствориться в степном знакомом пространстве чуткому человеку проще простого. Благословенна тёмная ночь, укрывающая преследуемого заботливее любящей сестры…
Утром бандиты спят поголовно. А днём Ивана Бирюкова пока ещё никто не выслеживал, хотя скоро стоило ожидать и этого. К тому же выпавший этой ночью снег не позволит скрыть своих следов уже никому. Но свинцовый шипованный кастет, выточенный в мастерской техникума точно по руке, был у него за подкладкой верхней одежды всегда. А милиция отбирала только водку, не обыскивая его вовсе, как человека смирного и покладистого.