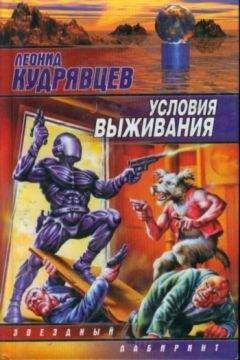Журнал «Новый мир» - Новый мир. № 9, 2002
Маленькое общее в наших детских и отроческих биографиях: я тоже часто болел ангинами. Но брюшного тифа в серьезной форме у меня не было (был, помнится, у Алексея[34]). Зато я болел скарлатиной. Это приключилось летом на даче в знаменитом имении Петрункевичей «Машук» в Тверской губернии. Там жило много знакомых семей с детьми (Франки, Лосские, разные Ольденбурги), и из-за них меня поместили в уездную земскую больницу в Торжке, где доктором был хорошо знавший Чехова доктор Черномордик. Моя мать жила там со мной. Продолжалось это долго, так как скарлатина осложнилась у меня сердечным заболеванием, а кроме того, не вылечившись еще от скарлатины, я заболел корью, когда в соседних деревнях началась эпидемия и понавезли множество больных крестьянских детей. (Одного крестьянского мальчика моего возраста моя мать потом взяла к нам в палату.) Не знаю, умирал ли я от скарлатины, но, во всяком случае, был on critical list (не зная об этом). А последствием кори было воспаление бронхиальных желез, и по совету д-ра Нечаева[35], который, если не ошибаюсь, лечил мать Блока, меня до конца следующего лета увезли в Крым. Я прожил с матерью в Олеизе, у Токмаковых, которых хорошо знали Булгаковы[36], больше шести месяцев. В Ялте меня осматривал д-р Альтшуллер[37], хорошо известный по биографиям и Чехова и Толстого. А лечил (или периодически осматривал) д-р Михайлов[38], тоже, кажется, знавший Чехова. Не вижу пока из Ваших воспоминаний, насколько хорошо Вы знали Крым, хотя и снимались в Ялте, но Вы, наверное, знаете, что Олеиз находится под Гаспрой, где умирал (но тогда выжил) Толстой[39]. А как раз в тот год, когда я жил в Олеизе, Толстой и умер. Следующее лето (1911 г.) мы в первый раз проводили лето (на даче) в Московской губернии, недалеко от Бородина, которое нам показывал, иллюстрируя своей «лекцией», А. А. Кизеветтер[40], тоже живший не очень далеко, в Можайском уезде. Нашими соседями была, помнится, семья Кончаловского[41], художника (а м. б., его брата). Там я в первый раз видел Брюсова, который приезжал к отцу по делам «Русской мысли». За завтраком (или ранним обедом) у нас он декламировал Пушкина и какие-то свои переводы. Никогда не забуду, как он читал «Шипенье пенистых бокалов…», иллюстрируя что-то, что он говорил. Единственный другой раз я видел его уже во время войны, когда он приезжал с фронта и у нас (в квартире над редакцией «Русской мысли») обедал. Нет, ошибаюсь, вру — это, должно быть, еще в 1913, ибо в 1914 г. мы уже жили в Сосновке. Но помню хорошо его приезд с фронта — из Вильно, кажется. Это могло быть в квартире при редакции, которая и после начала войны оставалась на Нюстадской улице (переименованной позже в Лесной проспект)[42].
Ну, простите, я заболтался. И к тому же еще на Ваши воспоминания откликаюсь какими-то не столько уж интересными фрагментами из собственной автобиографии. Это даже непростительно…
Буду уж бесцеремонным и прибавлю еще кое-что…
Гувернанток у нас никогда не было, и полиглотом я с детства, как Вы, не был. Да и сейчас не владею свободно (в смысле разговора или письма) несколькими языками (Вы, вероятно, теперь и по-испански говорите?). По-немецки, например, мне теперь говорить и писать совсем трудно, хотя именно для немецкого языка у нас в раннем отрочестве была приходящая немецкая учительница, внушавшая мне и Алексею любовь к искусству, разговаривающая с нами о картинах. Читаю и понимаю по-немецки, конечно, свободно; если нужно, могу намаракать письмо. Преподавание языков в Выборгском училище было поставлено хорошо, преподавались они всегда natives, полностью избегавшими русского языка (не очень даже хорошо, помнится, говорившими). Английский преподавался факультативно в 7-м и 8-м классах, и я брал эти уроки, как латынь, так что в 1916 г. ездил с отцом в Англию уже со знанием (некоторым) английского языка[43]. В тот год я кончил школу, но в университет не поступил, а уехал вместо того на фронт заведовать пропитанием строительных рабочих в Лесистых Карпатах для Земского Союза. В начале 1917 г. пробовал поступить в Михайловское артиллерийское училище, но был отвергнут из-за якобы у меня порока сердца (хотя «порока» у меня не было). По призыву потом получил отсрочку. Но позже, в апреле, поступил добровольцем в гвардейскую конную артиллерию, так что в высшее учебное заведение так и не попал, хотя и записался в Политехнический институт. Только по советской КЛЭ я кончил Петербургский университет[44].
Возвращаясь к языкам: по-итальянски научился читать сам, во время каникул в Оксфорде, прочтя «Un uonio finito» Папини[45]! Во время войны, работая «слухачом» на радиостанции агентства «Рейтер», помогал с переводами речей Муссолини и Гитлера (не говоря о Сталине), когда нужно было запрячь всех, кого можно, и работать (с валиком) в несколько рук. Но Данте читать не могу.
Вдруг вспомнил, что, если не считать стихов, одним из первых литературных опытов, еще в 7-м классе, кажется, вместе с одним товарищем (не Никольским), был перевод «Letters de mon moulin» Додэ[46], которые мы читали в классе.
По оглавлению Вашей книги вижу, что во 2-ой части будут общие со мной воспоминания — о пушкинском спектакле в Художественном театре, на котором я был, когда жил вне дома, так как в семье у нас опять была скарлатина…
Ну, пора и честь знать…
Г. С.
2Владимир Вейдле — Глебу Струве *
Париж, 5.IV.76
Дорогой Глеб Петрович,
Спасибо Вам за интересное письмо, где Вы о разных годах Ваших вспоминаете в связи с моей книгой. Вот бы и рассказать Вам о них в печати! А уж я, во всяком случае, жду продолжения, когда дочитаете «Зимнее солнце». Как кого, а меня оно греет. Перечитываю, совсем по-глупому, самого себя на сон грядущий и переношусь, хоть ненадолго, в те сказочные времена…
3Глеб Струве — Владимиру Вейдле *
14 апреля 1976 г.
Дорогой Владимир Васильевич!
Ко второй части Вашего «Зимнего солнца» у меня гораздо меньше «комментариев», хотя я и ее прочел с большим интересом и много из нее почерпнул. Но тут наши пути и впечатления как-то меньше совпадают, а вместе с тем и меньше наводят на размышления о контрастах.
И я, и брат мой Алексей тоже брали уроки музыки. Я сейчас вспоминаю не без некоторого удовольствия, что дошел до того, что играл «Турецкий марш» и еще что-то из Моцарта. Матери нашей очень мечталось, что на старости лет мы будем услаждать ее игрой на рояле. Но сами мы как-то быстро разохотились — музыкальными мы не были. И уроки оказались недолговечными. То же самое было примерно тогда же и немного позже с уроками танцев, и ни из одного из нас не вышло танцоров. Младших братьев уже и не учили ни музыке, ни танцам.
Мариинский театр вообще, можно сказать, не вошел в мою жизнь. Думаю, что был в нем всего два раза: в очень раннем возрасте, вскоре после приезда из Парижа в 1906 году, на «Жизни за Царя» (со Збруевой) и немного позже (но тут даже не совсем уверен) на «Руслане и Людмиле». Позднее опера вошла в мою с братом (мы тогда были почти неразлучны) жизнь через Музыкальную драму…
Имя Никиша[47] в те годы говорит мне что-то только потому, что я помню, что мать ездила на его концерты. А вот имя Моттля[48] как-то даже не дошло до меня. О Бузони[49] я больше слышал только уже позже, в Германии. Скрябин был только именем.
Больше всего воспоминаний и откликов пробудили во мне Ваши главы о «Где тонко, там и рвется» и о тургеневском спектакле. О тургеневском спектакле вспоминаю с большим удовольствием, но то «особенное», о чем Вы пишете, не выпало на мою долю: я видел этот спектакль только раз, и не с Лилиной, я думаю, а с Гзовской. Что касается пушкинского спектакля[50], то я полностью подписываюсь под всем, что Вы говорите: неумение читать стихи — особенно у Станиславского (больше, я бы сказал, чем у Качалова) — меня глубоко шокировало. И на всю жизнь запомнилось, кроме того (м. б., потому, что я был прирожденным петербуржцем и в Москве до 1918 года никогда не живал, да и в 1918 г. недолго), что в первом монологе Сальери Станиславский говорил: «Труден первый шаг и скушен первый путь…» Этого «скушен» я просто не мог переварить, и на моем дальнейшем отношении к Станиславскому это как-то отразилось.
В Михайловском театре на «французах» я никогда не бывал. Мейерхольдовского «Дон Жуана» и «Царя Эдипа» в цирке Чинизелли не видел. Все это читал у Вас с интересом и удовольствием.
Теперь два небольших вопроса-замечания: 1) На стр. 162 Вы пишете: «Стахович был очень хорош в роли Степана Трофимовича». Разве Стахович играл его[51]? Я этого почему-то не помню. Может быть, кто-то другой еще, более известный, в очередь (не могу сейчас припомнить, кто именно)? Должен при этом сознаться, что я «Братьев Карамазовых» в Художественном театре не видел[52] (кажется, считалось, что я слишком молод еще), но помню, что очень интересовался этой постановкой, много читал о ней, у меня до сих пор хранится фотография Германовой[53] в роли Грушеньки. А вот Стаховича в связи с этой пьесой просто не вспоминаю. А казалось бы, должен бы запомнить: с братьями Стаховича, известными общественными деятелями, отец мой был хорошо знаком, и я одного из них хорошо помню с 1913 года (с другим познакомился потом еще лучше в Париже и в Лондоне, а одно лето мы с ним жили вместе на Ф. Джерси у одних общих знакомых).