Ванесса Диффенбах - Язык цветов
– Да, – соврала я. – Хорошо.
– Вот и славно, – ответила она. – Дочка у тебя очень крепенькая. Я так тобой горжусь.
Я выглянула в окно и не ответила.
– Ты голодная? – спросила Марта. – Тебе помогают? Хочешь, приготовлю что-нибудь?
Я умирала с голоду, но слышать похвалу за похвалой было невыносимо. Я покачала головой. Тогда акушерка отдала мне ребенка и убрала весы.
– Ну ладно, – проговорила она. Она смотрела на меня пристально, словно выискивая какие-то подсказки, и я отвернулась. Не хотела, чтобы она поняла.
Она встала и пошла, а я вдруг вскочила и побежала за ней. Мне вдруг стало не страшно, что она посмотрит на меня и увидит, что я наделала. Гораздо страшнее было то, что она уйдет, так ничего и не узнав, не поняв, что я натворила, и не запретив мне сделать это еще раз. Но акушерка лишь улыбалась и, прежде чем уйти, поцеловала меня в щеку.
Мне захотелось ей рассказать, выложить все и молить о прощении, но я не знала как.
– Мне тяжело, – выпалила я единственное, что пришло в голову. Мой шепот уткнулся ей в спину, когда она спускалась по лестнице. Эти слова ничего не объясняли.
– Знаю, милая, – проговорила она. – Но у тебя все получается. В тебе это есть, ты можешь быть матерью, и очень хорошей. – Она продолжала спускаться.
Нет, не могу, подумала я, разозлившись. Мне хотелось крикнуть ей вслед, что я никогда никого не любила, спросить, как женщина, неспособная любить, может стать матерью, тем более хорошей. Но я знала, что это неправда. Я любила, и не раз. Я просто не понимала, что это любовь, пока не сделала все, что в моих силах, чтобы ее уничтожить.
На нижней ступени Марта остановилась и обернулась. Она вдруг показалась мне маленькой невежественной женщиной, и мое доверие к ней испарилось. Просто старуха, которая лезет не в свое дело, подумала я. Внутри кто-то щелкнул переключателем, и злой ребенок вернулся. Теперь мне хотелось только, чтобы она ушла.
– Как назвала? – спросила она, задрав вверх голову. – Есть у нашей большой девочки уже имя?
Я покачала головой:
– Нет.
– Потом само придумается, – проговорила она.
– Нет, – резко отчеканила я, – не придумается.
Но мамаша Марта уже ушла.
После ее ухода я положила дочь в колыбель, и та чудом проспала спокойно почти все утро. Сама же я долго стояла под горячим душем. Меня наполняло почти физическое отчаяние – оно было как беспрестанное покалывание, – и я натирала тело губкой, словно раздражение было внешним и его можно было смыть вместе с водой. Когда я вышла из душа, кожа стала розовой, а местами расцарапалась и побагровела. Отчаяние ушло на глубину, туда, где его было хуже слышно. Я притворилась, что после душа чувствую себя обновленной, не обращая внимания на глухой непрерывный зуд. Надев свободные брюки и кофту с длинными рукавами, натерла кремом из лавандового тюбика содранную кожу на руках и ногах.
Потом я налила себе стакан апельсинового сока, села на пол и заглянула в плетеную колыбель. Когда малышка проснется, я ее покормлю, а когда наестся, мы пойдем гулять. Я отнесу колыбельку вниз, на улицу, и свежий воздух пойдет на пользу нам обеим. Может, я даже отнесу ее в Маккинли-сквер и поучу там языку цветов. Она мне не ответит, конечно, но все поймет. Когда ее глаза были открыты, мне казалось, что она понимает все, что я говорю, и то, что остается невысказанным. В ее глазах были глубина и загадка, точно они по-прежнему хранили связь с тем местом, откуда она появилась.
Чем дольше малышка спала, тем слабее становилось отчаяние, и мне почти удалось поверить, что я вырвалась из его тисков. Я поверила, что моя короткая отлучка в магазин не нанесла серьезного вреда и я, как не уставала повторять мамаша Марта, действительно справляюсь с задачей. Наивно думать, что у меня получится сразу изменить образ жизни, налаженный за девятнадцать лет. Срывы будут. Всю жизнь я ненавидела целый мир и жила сама по себе. В одночасье мне не стать любящей, преданной матерью.
Я легла на пол рядом с ребенком и стала вдыхать запах мокрой соломы, исходивший от колыбели. Я готова была уснуть. Но не успели глаза сомкнуться, как ее мерное дыхание сменилось знакомым причмокиванием раскрытых, ищущих губ.
Я заглянула в колыбель. Она смотрела на меня широко открытыми глазами; ее рот двигался. Она дала мне возможность поспать, а я ее упустила. Теперь другой не будет еще несколько часов, а может, и дней. Я взяла ее на руки. Глаза мои наполнились слезами, и когда ее челюсти сомкнулись, влага потекла по щекам. Я смахнула слезы тыльной стороной кисти. Она беспощадно вгрызлась в мою грудь, и отчаяние вынырнуло из недр на поверхность со свистом, подобным эху летящего снаряда, предвестнику чего-то большего.
Она сосала целую вечность. Я перекладывала ее от одной груди к другой, то и дело посматривая на часы. Прошел целый час, а она еще даже не собиралась перестать. Мои вздохи превратились в стоны, когда я почувствовала, как она присасывается сильнее. Отчаяние переросло в панику. Пальцы вцепились в диванные подушки, костяшки побелели; сон стал далеким, недостижимым миражом. Покормлю ее, и пойдем на улицу, пообещала я себе. Разгоним панику и вернемся домой с букетами силы и спокойствия, если я теперь вспомню, какие цветы для этого нужны, и смогу их найти.
Малышка сосала и спала, а потом присасывалась снова. Шли часы.
– Хорошо, – строго предупредила я, – почти закончили.
Она во сне зашевелилась и надула губы. Я сунула ей в рот мизинец, надеясь, что она не почувствует разницу, но она высунула острый язычок и недовольно заворчала.
– Нет, с меня хватит, – отрезала я. – Мне нужно отдохнуть.
Я положила ее на диван и потянулась. Недовольное ворчание переросло в мягкие всхлипы. Я вздохнула. Я знала, чего она хочет, знала, как удовлетворить ее желание. Со стороны все выглядело так просто. Может, и было просто – кому-то другому, но мне – нет. Я часами терпела ее близость, да что там, днями, неделями, и теперь мне необходимо было одиночество, хотя бы на пару минут. Я пошла на кухню, и малышка заревела в голос. Ее плач магнитом потянул меня обратно.
Я села и взяла ее на руки.
– Пять минут, – сказала я. – Потом мы уходим. Тебе больше не нужно.
Но когда через пять минут я положила ее в плетеную колыбель, она заплакала, точно я собиралась пустить ее по реке и расстаться с нею навсегда.
– Что тебе от меня нужно? – спросила я. Отчаяние в голосе граничило со злобой.
Я попыталась качать колыбель, как Марлена, но малышку тряхнуло, и она лишь сильнее заревела. Я не умела качать нежно. Я взяла ее на руки, покачала, похлопала, чтобы она срыгнула, и стала напевать в ухо тихо, без слов. Крик не прекращался.
– Ну не может быть, чтобы ты хотела есть, – умоляюще проговорила я, склонившись прямо к ее маленькому уху, чтобы она слышала меня через собственный рев.
Но она повернулась ко мне и попыталась присосаться к моему носу. Я издала истерический звук, фырканье, которое человек, не осведомленный о том, как близко я была к срыву, мог бы принять за усмешку.
– Ладно, – сказала я. – На. – Подняв рубашку, я сильно прижала ее голову к груди.
Под давлением моей ладони она не могла открыть рот. Когда у нее наконец получилось, она замолкла и начала сосать.
– Ну все, – сказала я. – Надеюсь, тебе хоть нравится. – В моем голосе слышалась угроза, он словно принадлежал другому человеку. Я испугалась.
Держа малышку одной рукой, я вползла в голубую комнату, взяла пакет с молочной смесью и вывалила его содержимое на ковер. Шесть банок высыпались мне под ноги. Я наклонилась и взяла одну; сосок выскользнул из ее рта. Несчастный крик возобновился.
– Да здесь я, – процедила я и положила ее на стол, но мои слова не успокоили ни меня, ни ее.
Она выкручивалась на холодном столе, а я тем временем перелила искусственное молоко из банки в бутылочку и закрутила соску. Приложив к ее губам пластиковый наконечник, я ждала, когда она откроет рот. Когда этого не произошло, разомкнула ей губы пальцами и сунула соску насильно. Она подавилась.
Я сделала глубокий вдох и попыталась успокоиться. Поставив бутылочку на стол, шагнула назад. Моя дочь была голодна. Я должна была ее покормить. Ничего сложного. Я взяла бутылочку, села на диван и положила ребенка, поддерживая ее головку локтем. Поцеловала ее в лоб. Она снова попыталась ухватить мой нос губами, и тут я и сунула ей в рот бутылку. Она причмокнула один раз, затем отвернулась; искусственное молоко потекло изо рта. Она заорала.
– Значит, не голодная, – сказала я и поставила бутылку, треснув ей об пол со всех сил. Из соски брызнула тонкая струйка молока. – Если не хочешь молоко, значит, не голодная.
Я встала с ребенком на руках и принялась ходить по комнате. Подожду, пока она точно проголодается, и тогда опять дам ей бутылочку. Я попыталась представить, что я Марлена: легкость, с которой она перекладывала ребенка с одной руки на другую; быстрые, уверенные движения, которыми она пеленала малышку; мелодичное пение. Но все пеленки были грязные, а я не знала ни одной песни. Малышка замахала руками и начала царапать лоб и щеки, пока вся не покрылась царапинами. В отчаянии я уложила ее в колыбель. А сама пошла на кухню, запрыгнула на стол, вылезла в открытое окно и с треском опустила его.


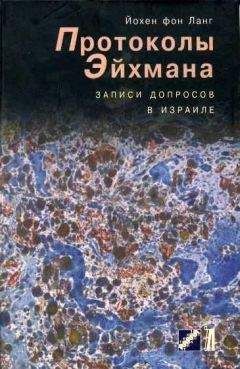
![Генрих Бёлль - Избранное [ Ирландский дневник; Бильярд в половине десятого; Глазами клоуна; Потерянная честь Катарины Блюм.Рассказы]](/uploads/posts/books/121756/121756.jpg)
