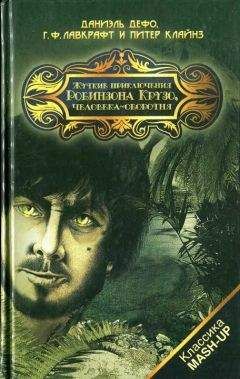Лутц Зайлер - Крузо
Когда они начинали рассказывать, их жизнь (с ее бедами и конфликтами) уже как бы упразднялась неописуемым, по словам многих, воздействием острова, упразднялась шумом моря и его огромным, бесконечным движением, утренней свежестью воды и ветра, который никогда не переставал, задувал прямо сквозь глаза в голову и освобождал мысли. Снова и снова истории возвращались к панораме острова, открывающейся с возвышенности, к так называемой Большой панораме острова, которая своей непостижимой красотой открыла им глаза и призвала из глубин сознания начало воспоминаний, воспоминаний о самих себе. И действительно, зачастую речь шла о совершенно ребячливом желании прижать прямо к сердцу контур острова, раскинувшийся перед ними во всей своей уязвимости, – справа и слева море, а посредине хрупкая, нежная полоска суши…
Почти каждый из ночлежников-нелегалов говорил о том, как после долгого всматривания в туман, где таяла последняя, самая южная оконечность острова (по-настоящему ее было видно редко, в общем-то, считай, не видно никогда), он осознавал, сколь чуждой и ограниченной стала для него собственная жизнь до этого дня, совершенно скованной, и сколь заброшенным, отринутым, пристыженным выглядело здесь его бытие, похожее на забившегося в конуру меланхоличного пьяницу-пса, так прошептал один из темноты, пожалуй прибегнув к не слишком удачному образу. Но Эду хотелось слушать, слушать все, он чувствовал в потемках бесподобное тепло рассказа, чувствовал, как это тепло делалось общим, пока он слушал, не шевелясь. Чувствовал, насколько все они связаны друг с другом. И с какой легкостью стали доверенными лицами этого края, стародавними поверенными рока, который длился и будет длиться вечно, а все-таки словно приуготовлял некое обетование – когда в душе хватало страсти. Глубоко в роке таится обетование, думал Эд, с подобным парадоксом он сталкивался только при чтении иных стихов, значивших для него больше, чем все прочее на свете. Теперь он мог так думать, запасы молчали, ни тебе трамвая, ни фиговины, которую нужно резко потянуть. Вместо этого наплывы стыда, стыда и отвращения на широком фронте. Но в конце концов он и для этого слишком уставал.
Казалось, в самом деле невозможно подобрать для воздействия острова удачное сравнение, и многие заявляли, что для этого вообще нет слов. Можно разве только сказать, что в этом месте, у Большой панорамы, они вдруг снова начали ощущать засыпанные корни, как говорил Крузо, а к этому образу, словно к себе домой, стремятся все образы, «просто к себе домой», именно так высказался тот, что рассуждал о пьяном псе в конуре. Со своим горьким итогом он долго стоял возле двери, а потом улегся рядом с Эдом и тотчас канул в сон, меж тем как Эд еще прислушивался. К прибою и шуму сосен.
Истории ночных гостей были очень разными, порой даже причудливыми, и рассказ они вели по-разному, стоя или лежа, торопливо или в полусне, но Эд все равно непременно улавливал в них голос Крузо, идущий из темноты, отблеск его слов в словах потерпевших крушение и бесприютных, которые казались ему теперь чуть ли не целомудренными недотрогами, а иногда мнилось, будто Крузо шепчет прямо ему на ухо, будто ласкает его особенностями своей интонации, мягкими согласными, тягучестью…
«Остров – первый шаг, понимаешь, Эд? Остров – то самое место. Здесь большинству уже через несколько часов удается коснуться корня. Он пророс в нас из далекого прошлого, не с рождения и не в нынешние дни, как думают некоторые, нет, я имею в виду: с незапамятных времен. Если нам удается прикоснуться к корню, мы чувствуем: вот она, свобода, глубоко в нас, она живет в глубине нашего сокровеннейшего “я”. Та свобода, о которой я говорю. Она – помышление сокровеннейшего “я”, помышление нашей самости в истории. От нас требуется только одно – разбудить это помышление. Ведь зачастую оно в плену бессилия. Есть много форм плена, Эд. Страх, кошмарные сны, судорога, апатия. Сюда же относятся шлаки, все новые шлаки, что откладываются на нас, пока мы живем. Тяжкий осадок честолюбия, власти, алчности, собственности, ржавые, ядовитые, угарные шлаки. Конечно, иногда корень уже сгнил или засох. Это люди пропащие, дети мрака, отринутые. Но они не такие, Эд. Иначе бы не приехали на остров – они ощутили корень».
Интонация Крузо.
Эд вспоминал. Видел, как Лёш расхаживает взад-вперед по пляжу и говорит. Сам он лежал наверху, на краю обрыва, и смотрел вниз на группу, которая неожиданно расселась там полукругом. Он только что совершил обход, в одиночестве. А теперь смотрел на волны, пытаясь уловить ритм ныряющего баклана. Двадцать секунд, двенадцать секунд и опять двадцать. Он задремал, а когда проснулся, они вдруг сидели там, маленькая стайка Крузо. Делали украшения, нанизывали на нитки птичьи кольца, гнули зубную проволоку, серьги, двадцать марок за пару. В Утопии работали по три часа утром, потом двухчасовой перерыв, на «литературные штудии», так написано у Томаса Мора, Крузо ему зачитывал.
Ветер посвежел, прибой заглушал звуки слов. Одна из потерпевших крушение подняла руку, возможно Грит, которая всегда хотела все знать, со спины Эд не мог разглядеть. Крузо что-то ответил, кивнув на море. Море. Его чистый простор, его мощь. И собственные смехотворные границы. Потому-то сюда и приезжают, думал Эд. Хотят увидеть край света, видеть его постоянно, всегда.
Баклан исчез. В лучах заходящего солнца из моря поднимался Мён, выше и достовернее, как никогда. Тонкий трепетный штрих прибоя отделял воду от суши и белых меловых скал, что мало-помалу меняли цвет, становились светло-серыми, а по форме казались сродни круче, на которой растянулся Эд. Мён вроде как зеркало, думал Эд. Зеркало, с помощью которого можно увидеть себя по ту сторону, первообраз тоски. Солнце медленно опускало золотой мост над водой, вздымающейся могучими, шиферно-серыми валами и год за годом вгрызающейся в западный берег возвышенности. Посредине моста мерцали багровые очертания кострищ, план поселения на дне. Подводное сияние и слепящие блики – словно Винета[18] могла в этот миг прорвать поверхность Балтийского моря, возникнуть в пространстве как третья сила, третье место, которое положит конец всем отражениям, раз и навсегда.
«Порой это болезненная работа, – поучал Крузо, имея в виду не зубную проволоку и не птичьи кольца. – Сначала вы должны… корень… Каждому из вас… то есть…» Ветер снова изменил направление.
Океанографы совсем недавно обнаружили это поселение, в точности между побережьями.
«Представь себе, они живут там, внизу. Сидят за столами, ходят гулять, они свободны, они все свободны…» Он с удовлетворением произнес это слово, а ведь Лёш знал, что это море – могила.
Теперь ветер дул на запад. Сдувал слова на воду, по золотому мосту. Эд видел, как большие грузные течения сливались друг с другом, они вдруг стали зримы – как реки из света.
«Никто не должен бежать, никогда…»
«Многие зна…»
«Полстра…»
«Свобода влечет нас…»
«Призваны к служе…»
«Беспримерное паломничество…»
«…начинается», – прошептал Эд. Ему никогда не хотелось засыпать, пока потерпевшие крушение не выскажутся до конца, но потом он все-таки засыпал, веки сами смыкались. Он вновь переживал тяжелую безмятежную усталость детства, позволявшую скользнуть из сказки в сон, из посюсторонности в потусторонность, из одной истории в другую, без порога, без границы.
Во сне Эд видел, что остров переполнен. Гавани, пустошь, возвышенность и пляжи – повсюду густая темная толпа людей. Они сидели даже на бунах и на камнях ледникового периода, торчавших из воды возле берега. Похожие на больших вялых морских птиц, только без оперения. Кожа обожжена солнцем. Бормотание их было слышно и по ночам, смешивалось с рокотом прибоя, достигало до его окна. Пляж усеян кучками фекалий и гнилыми водорослями, среди которых поблескивали дохлые рыбы и прочий мусор.
День острова
– Вот твой значок, Эд.
Крузо вытащил из нагрудного мешочка квадратный кусочек оберточной бумаги. Накрыв его ладонью, подвинул через стол к Эду.
Черная метка, подумал Эд.
Было 6 августа, выходной из выходных. День, когда неодинаковые ритмы островных заведений пересекались таким образом, что ни одно из них не открывалось, – так случалось ежегодно, обязательно и редко, как солнечное затмение, посреди сезона. День сезов.
– Наши значки соответствуют давнишним хиддензейским домашним меткам, – начал Крузо тихим голосом. – Это вроде как особые письмена, похожие на руны, какими в старину клеймили вещи, скот и даже землю, участки, в общем все, чем владели.
Он улыбнулся и посмотрел Эду прямо в глаза.
– Так повелось с времен Хитина, Хёгина и конунга Хедина с Хединсея… – Говоря о судьбоносной роли их острова в сагах Севера, Крузо выуживал из мешочка хрустящие бумажки, одну за другой. – …в Эдде, стало быть, но и в Песни о Гудрун, где конунги…