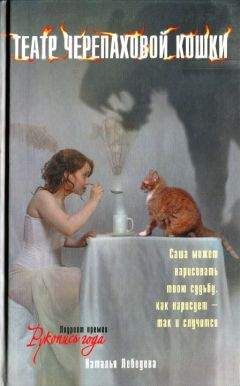Михаил Тарковский - Енисейские очерки
Через три недели Алексея выпустили с диагнозом дистонии и рекомендацией обследоваться в большом городе. Пришел его врач и весело сказал, взбив воздух указательным пальцем:
— Будет к вам вертолет, полетишь?
— А-би-зательно — ответил Алексей.
Это тоже было санзаданье — у них в деревне парализовало жену лесника. Вертолет летел вдоль Енисея. Алексей сидел на корточках у открытого окна, куда время от времени курил врач, и глядя на медленно ползущий лед и рыжее, пробивающееся сквозь снеговое облако, солнце, вдыхал ветер и чувствовал, как возрождается в нем жажда работы, веселья, жизни.
В деревню прилетели на закате. В голубых сумерках четко чернели дома, бани, длинный барак школы. Его встречала Люба на "буран". Она сдвинулась, он сел за руль и со всей силы нажал на газ.
Начались расспросы, рассказы. Все переживали. Соседка, Степанова теща, опираясь на палку, бросилась к нему навстречу и заплакала. Подошел сосед, справился о здоровье, предложил, если надо, денег. Много кривотолков вызвало загадочное появление собак в деревне — вертолет подсел ранним утром и его никто не заметил.
Вечером он заглянул к Витьке, тот вышел на несколько дней из тайги — участок был рядом. Они поужинали, выпили, Алексею не терпелось убедиться, что он выздоравливает. Когда он подходил к своему дому на угоре, во всю горел закат. У горизонта небо было розовым, а выше переходило через желтизну и зелень в глубокую космическую синь над головой. Плотно забитый льдом Енисей грохотал мощно и спокойно.
Охотники были в тайге. Алексей возил воду их женам и думал о том, каково женщине одной управляться с хозяйством и детьми, когда муж где-то там и неизвестно, что с ним, а за окном морозная ночь и сизый провал Енисея.
Через две недели он пошел в тайгу. Вставал Енисей и Бахту на много километров залило водой, так что увезти его никто не мог. Он шел на лыжах километров по двадцать в день, было тяжко, оттягивали плечи свой груз и гостинцы Степке, но он чувствовал, что только так можно добить сопротивляющуюся болезнь. Особенно дал ему прикурить поворот на шестидесятом километре, к которому он подошел уже в полной темноте. Поворот по осени заторосило, торос наполовину засыпало снегом, но это место не брало ветром, и снег был неубойный, сыпучий. Изрядно вымотавшийся Алексей километра два впотьмах пробирался по этому торосу, то проваливаясь выше колен, то грохая лыжой по голой вздыбленной льдине и едва не падая от неожиданного подъема, а когда торосы кончились, за мысом его ждал такой пронизывающий ветер, что, если бы не избушка, ему пришлось бы туго. На сотом километре его встретил белобородый Степан на обледенелом "буране". Свой "буран" Алексей долго откапывал лопатой из под плотного надувного снега — виднелся только небольшой бугорок на месте стекла. На следующий день он уехал к себе, по пути настораживая капканы. У избушки все было избегано, с лабазка, где лежала рыба, соскочил соболек и побежал, суетливо складываясь в каждом прыжке пополам и озираясь на гремящий "буран".
Алексей хорошо поохотился и выехал к Новому году, худой как щепка, но довольный. На праздники он напился, пол-ночи проплясал с остяцкой девкой, которая под утро потащила его к клубу, где в снегу у нее была спрятана бутылка водки, он посадил ее за руль, она газанула, на остром гребене снежного надува не справилась с управлением и они перевернулись, причем Алексей упал на больную, поврежденную в коленке ногу, еле доковылял до дома и заснул. В обед продолжавшие гулять мужики, послали за ним Степана. Степан хорошо помнил наказ "без Лехи не приходить" и все пытался поднять, растормошить Алексея, а тот не мог оторвать головы от подушки, и бормотал "Степка, отстань", а потом разозлился и бросился на друга с кулаками, тут же, правда, получив по ребрам. На следующее утро, он не мог ни вздохнуть, ни пошевелиться. Болела нога, болели ребра. Он сосредоточился и вспомнил свои подвиги. После пережитого осенью в тайге, все это было так бездумно-глупо, что некоторое время он лежал, покрываясь холодным потом и повторяя: "Нечего сказать, покувыркался…", а потом встал и поковылял к Степану. Степан сидел на скамеечке и мрачно курил в печку. Алексей кинул шапку в угол и сказал:
— Степка, прости дурака.
Степка подмигнул и достал две стопки.
7
Через несколько дней Алексей уехал в тайгу запускать капканы. Вывалило много снега. В одном месте так забило затеси, что он почти час искал дорогу и, приехав в избушку в темноте, попил чаю и уснул, не раздеваясь. Ему приснилась весна. Они со Степаном подъезжают к Шыштындыру. Все ближе и ближе белеет крышами поселок. Алексей говорит:
— Знаешь, как на западе обрешетку под шифер называют?
— Как?
— Подскальник.
— Придумают же! Подскальник… — Степан смеется, мотает головой.
Вода большая. Несет мусор. Поселок стоит на крутом яру, виднеются свежесрубленные избы. Вдали синеют горы. На берегу копается с мотором мужичок.
Степан заговорил с мужичком, а Алексей поднялся в гору и пошел в поселок. Все было как обычно — избы, собаки, оленьи нарты, рыжие торцы дров в поленницах. Потом пошли двухквартирные брусовые дома, потом попался двухэтажный, за ним кирпичная контора, и вдруг начались каменные, многоэтажные, откуда-то взялась асфальтированная улица с магазинами, автомобилями и перекрестками.
Шел дождь. Поскрипывая дворниками, медленно ехали с зажженными фарами машины, по левому ряду с гулким шелестом пронесся в туманном облаке белый автомобиль и, припав на передние колеса, замер у светофора, сочно вспыхнув огнями и отражаясь в мостовой. Пройдя под голыми и мокрыми деревьями сквера, Алексей оказался у высокого серого дома с башенками. Он открыл дверь и вошел в подъезд.
Катя постелила ему в его комнате и вышла, но вскоре вернулась и, не зажигая свет, села на край кровати. Окно было открыто.
— Где ты была? — спросил Алексей.
— Аяна твоего кормила. Он голодный. — В окне слышались шум поезда и свистки тепловозов.
— Ты простишь меня?
— А ты этого хочешь?
— Больше всего на свете.
Катя принесла два высоких стакана, наполнила их светло-желтым чуть шипящим вином, протянула один Алексею:
— Не болей больше.
Они чокнулись. Стакан треснул, громко и сухо щелкнув. Алексей вздрогнул. Из темноты медленно выступили гладкие жерди потолка, тускло освещенные лампой. Скорлупка осколка еще покачивалась на столе, и под мутным остатком стекла метался чадящий язык пламени.
ДЕВЯТНАДЦАТЬ ПИСЕМ
Из деревни его вывез набитый пассажирами почтовый вертолет. До последней секунды было неясно, возьмут его или нет, и он напряженно стоял возле дверцы, пока искали завалившуюся коробку, подписывали накладные и кидали на снег белые просургученные мешки с уже не интересовавшей его почтой — все что ему могли написать, он уже знал.
Из Подкаменной Дмитрий летел на старом транспортном самолете. Большой, четырехмоторный, крашеный серой краской, он одиноко стоял на краю площадки. Вскоре появился и командир, неся под мышкой завернутого в бумагу налима со свисающим хвостом. — То что нужно — подумал Дмитрий и быстро договорился с командиром за кусок осетра.
Дали вылет. Он стоял в дверях кабины за спинами пилотов, и глядя на россыпь приборных огней, ждал. Наконец заработали двигатели, самолет задрожал, тяжело тронулся и долго выруливал к полосе. Уже настали сумерки, а они все тряслись мимо ангаров, мимо заснеженного остова разбитого вертолета, пока наконец самолет не остановился, скрипнув тормозами. Впереди лежала стрела полосы с фиолетовыми огнями. Тут мощно и мрачно взревели двигатели, самолет, вздрагивая и колыхаясь, побежал, набирая скорость, по полосе, и неожиданно легко оторвался от земли и потянул ввысь. Сквозь застекленное дно штурманской кабины празднично горели огни поселка, впереди открывался кристально-рыжий край неба с белой звездой.
Пилоты сосредоточенно писали пулю, один из механиков рассказывал про самолет, называя его "кораблем". Кораблю было тридцать семь лет. — Как мне, — усмехнулся Дмитрий, — и летит ведь!
В Красноярске он удачно попал на проходящий рейс и через несколько часов стоял в аэропорту на остановке экспресса, худощавый, крепкий, с небольшой сухой головой и серыми глазами. Под сплошной узкой бородкой напряженно ходили углы челюстей. Пахло бензином и весенней сыростью. В Москве он не был год.
Оля прислала девятнадцать писем, где подробно и горько описывала свое одиночество. Целый год Дмитрий гадал, как поступить с ней, и было заранее совестно знать, что, не испытывая к ней особой любви и в глубине души считая дурочкой, он по приезде первым же делом позвонит ей и, что едва ее увидит, махнет на все рукой. Так оно вскоре и вышло.
Оля подняла трубку со звонким "Але" и тут же, узнав его, сказала другим, притихшим, голосом: "Ой… Это ты? Здравствуй". — Какой у нее все-таки чистый хороший голос, — думал он, гуляя вечером по знакомой с детства аллее, поглядывая на свои непривычно маленькие в узких ботинках ступни и чувствуя себя в чистой легкой одежде необыкновенно стройным и поджарым. На следующий день он занимался делами в городе и по дороге домой заехал за Олей.