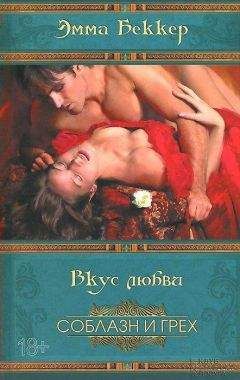Дом - Беккер Эмма
— Все хорошо.
Я не смогу вспомнить, о чем был разговор, потому что Марк недолго думая выдал такую околесицу, что я позабыла все остальное:
Послушай, не знаю, должен ли я спросить тебя об этом…
Я сразу чувствую, что это попахивает чем-то неприятным.
— Должен ли я что-то дать тебе?
Несмотря на отвращение, я испытываю некое удовольствие, видя, как он проваливается в трясину.
— Дать мне что? Денег?
— Ну да, даже не знаю…
Я отвожу взгляд, Марк тотчас начинает путаться в жалких извинениях. И я не могу по-настоящему винить его, вот в чем дело. Я была такая ледяная, делала все так механически, что он не видит другого выхода, кроме как заплатить мне. Это был минет проститутки, должно быть, я одна из них.
Ему это не придет в голову, но проститутка никогда бы так не поступила. У проститутки нет времени на такие глупости. Так ведут себя жалкие девчонки. Эта фраза, произнесенная Марком, эхом отдается у меня в голове на протяжении двух-трех дней — пара неловких слов, чтобы откупиться деньгами. А что, это забавно. После шести месяцев в публичном доме, после того как я ловко выходила из таких ситуаций, от которых многие девушки ревели бы в три ведра, — вот когда я чувствую себя проституткой. И именно сейчас этот факт меня задевает. Надо подумать, что и у меня есть предел. Отлично. И я сама дошла до такого! Марк тут ни при чем: я сама ввязалась в это, и отсутствие достоинства у нас обоих легло в основу этого показательного спектакля современного недопонимания, патетики в котором на здоровье!
Я провожаю его до двери, и Марк предпринимает попытку:
— Может, условимся, что это был в некотором роде… разогрев? Для следующего раза?
То, что подобная мысль вообще сумела прийти ему на ум, — грандиозный источник депрессии, но у меня еще будет время посвятить этому остаток дня, лежа в полусонном состоянии и выкуривая сигарету за сигаретой. Главное, в одиночестве.
— Всего хорошего, — улыбаюсь я, закрывая за ним тяжелую подъездную дверь. Марк машет мне до тех пор, пока я вовсе не исчезаю из виду. Он даже прогнется под жалюзи на окне моей комнаты и снова спросит, все ли в порядке. Я всячески даю понять, что еле сдерживаю желание прищемить ему пальцы, закрыв ставни, и он в конце концов уезжает на велосипеде, прощебетав еще раз что-то на прощание.
Предполагаю, что, пока он спокойно крутит педали по направлению к Митте, где живет его маленькая хорошенькая семья, облегчение сменяется зияющей пустотой, отвращением к самому себе и виной, которую не смоет никакой душ, даже с большим количеством мыла. И, лежа в кровати с женой, чтобы успокоить себя, Марк подумает, что, по сути, и признаваться-то не в чем. Как будто он просто мастурбировал близ Фридрихсхайна, не более того. Это ведь не запрещено, не так ли? Его заставит бодрствовать и дрожать мысль о том, что теперь его сексуальная жизнь сводится к этому: вот к таким грязными обжиманцам с потерянной девушкой, которой ему всегда захочется предложить денег. Это будет правосудием. Или, во всяком случае, доказательством того, что отцовство точно имеет свою цену.
Is She Weird, The Pixies
Я плохо представляю, что делать с короткими, ничего не значащими зарисовками повседневной жизни борделя. Не знаю, в чью историю, кроме моей собственной, можно поместить их. В жизни всякого писателя, наверное, возникает момент, когда ему хочется рисовать. Эти образы имели бы больше веса, будь они написаны на белом листе маленькими, точными, воздушными мазками кисточки или фломастера. В человеческой жизни есть настолько невесомые минуты, такие короткие моменты благодати, что слова могут лишь отяжелить их. Иногда так хочется быть Райзером, Манарой — это было бы идеально.
Моя голова переполнена подобными маленькими сокровищами. Но я не могу поведать о них иначе, кроме как просто приложив одно к другому, в надежде, что эта страница сможет передать их красоту. Не стоит и мечтать.
Октябрьский день, на часах уже двенадцать. До работы есть немного времени, и я направляюсь за кофе в итальянскую забегаловку на углу. Мне нравится так делать перед работой. По крайней мере, такими были мои планы, которые я внезапно поменяла, увидев сидящую за столиком на террасе Биргит. Она заняла мое любимое место.
Биргит говорит по телефону. Я, словно лисица, забегаю в булочную, что в двух шагах, где мне подают ужасно жидкий кофе, и сажусь за покачивающийся столик. Я принимаюсь царапать какую-то ерунду на полях записной книжки, сбитая с толку близким присутствием коллеги, одетой в гражданское и пьющей в конце трудового дня свой заслуженный кофе. Сквозь порывы осеннего ветра я слышу ее берлинский акцент, таинственный, но знакомый. Она смотрит в мою сторону. Я трусливо хватаюсь за сотовый и изображаю телефонный разговор на французском. Пока не заканчивается моя сигарета. Биргит наверняка узнала меня. Я бы ни за что в жизни не хотела, чтобы она решила, что я избегаю ее. В таких ситуациях у меня есть отличный аргумент — девушки из публичного дома отнюдь не желают быть узнанными. Две симпатичные девицы рядом в двух шагах от Дома — это уж слишком. Но буду честна, главная причина в том, что у меня нет желания разговаривать. И я отлично знаю, что Биргит знает это. Она работает здесь более десяти лет.
Вопреки всему, я не горжусь своим поведением. Проходя мимо нее, закутав подбородок в шарф, я незаметно здороваюсь с ней. «О, привет, Жюстина», — улыбается Биргит. Она заметила меня с самого начала, теперь я в этом уверена, но, кажется, не сердится на меня.
Мы обмениваемся банальностями. Как прошла смена? Когда ты закончила? Сегодня среда, ее дочка дома. Она ждет блюда, заказанные в ресторане для них двоих.
В Доме без Биргит было бы грустновато. Без ее смеха и советов старшей, которая помнит это место с тех времен, когда здесь было только четыре комнаты. Мало что сегодня удивляет эту женщину, и это качество внушает спокойствие новеньким. Биргит неизменно обходит нас в очереди на «презентацию», сгибает свои метр восемьдесят в прямой угол, чтобы посмотреть в щель замка и увидеть, кто сидит в зале. И зачастую она отходит, заявляя: «Я не пойду», и вновь садится, словно королева, на большой диван в нашем зале. «Почему?» — осведомляется, всполошившись, стадо, уверенное, что может положиться на Биргит в распознавании извращенцев среди нормальных парней и поиске сложных случаев в гуще простых.
— Он не в моем вкусе, — просто отвечает Биргит, уже погрузившись в чтение немецкого Marie Claire.
Он не в моем вкусе — вот какого заявления никто не ждет от проститутки, особенно когда той нужно кормить взрослую четырнадцатилетнюю дочь. Однако у Биргит свои принципы. И деньги тут ни при чем. Не в ее правилах стремглав мчаться на «презентации»: у нее, так или иначе, есть свои постоянные клиенты. Мужчины вроде Бертольда, которые остаются с ней все утро в ее любимой Золотой комнате. Ей этого абсолютно достаточно, потому что очевидно, что Биргит не гонится за деньгами. Небольшой дополнительный комфорт — вот зачем она приходит сюда пять дней в неделю с десяти до четырех, несмотря ни на дождь, ни на град. Пусть хоть сюда заявятся всадники апокалипсиса. И если ей случается сидеть без дела, Биргит не мечет гром и молнии, в отличие от других девушек. У нее уйма других дел: заполнить бумаги, накрасить ногти на ногах, причесаться и поболтать с коллегами. Обычно меня среди них нет, потому как мой немецкий, пусть и в состоянии постоянного прогресса, не позволяет мне понять тонкостей их беседы. Я не понимаю, но слушаю. И слова, которые я выхватываю, вместе с теми, о значении которых только догадываюсь, позволяют мне понять, что Биргит как мать для всего этого немногочисленного народа. Ей все можно рассказать, она будет держать рот на замке. На работе она присутствует телом и душой, а когда уходит, эта ее жизнь уступает место жизни, в которой она отзывается на другое имя. В ее голове все четко разделено, за исключением, может быть, небольшого отрезка времени после конца смены, когда мы, отпущенные на свежий воздух, наводим порядок в своих мыслях. Момент всегда немного запутанный: в голове все еще живо, хоть и остывает.