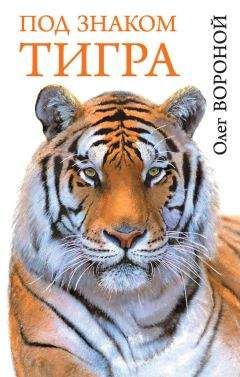Томас Вулф - Взгляни на дом свой, ангел
XII
Приближалась зима, и угрюмое умирание осени ненавистнее всею ему было в «Диксиленде» — тусклые, засиженные мухами лампы; унылые блуждания по дому в поисках тепла; Элиза, неряшливо кутающаяся в старую кофту, в грязный шарф, в старый заношенный сюртук. Она мазала глицерином потрескавшиеся от холода руки. Ледяные стены гноились сыростью — они пили смерть из воздуха; одна из постоялиц умерла от тифа, ее муж быстро вышел в холл и тяжело опустил руки. Они приехали из Огайо.
Наверху, на веранде, служившей спальней, в бесконечной темноте кашлял худой еврей.
— Ради всего святого, мама! — негодовала Хелен,— Зачем ты их пускаешь? Разве ты не видишь, что он заразный?
— Да не-ет,— отвечала Элиза, поджимая губы.— Он сказал, что у него небольшой бронхит. Я его прямо спросила, а он взял да и расхохотался. «Послушайте, миссис Гант»,— говорит…
За этим следовала бесконечная история, украшенная множеством вьющихся прихотливыми ручьями отступлений. Хелен приходила в бешенство: это была основная черта характера Элизы — слепо защищать то, что приносило ей деньги,
Еврей был добрым человеком. Он осторожно кашлял, загородившись белой рукой, и ел хлеб, обжаренный в яйце. Юджин пристрастился к этому блюду — он простодушно называл его «еврейским хлебом» и просил добавки. Лихенфелс мягко смеялся и кашлял, а его жена заливалась звонким смуглым смехом. Юджин оказывал ему мелкие услуги, а он давал ему каждую неделю по монете. Он был портным из Нью-Джерси. Весной он перебрался в санаторий и позже умер там.
Зимой немногие простывшие постояльцы, чьи лица, чьи личности из-за постоянных повторений утратили хотя бы проблеск оригинальности, сидели у догорающих углей в гостиной, раскачиваясь и раскачиваясь в качалках, переговаривались скучными голосами, со скучными жестами,— вероятно, «Диксиленд» опротивел им, и они сами опротивели себе не меньше, чем опротивели ему.
Он предпочитал лето, когда приезжали медлительно-томные женщины жаркого богатого Юга, темноволосые белокожие девушки из Нового Орлеана, пшеничные блондинки из Джорджии, красавицы из Южной Каролины, говорившие с негритянской оттяжкой. И малярики из Миссисипи, апатичные, чуть желтоватые, но с белыми крепкими зубами. Краснолицый постоялец из Южной Каролины с побуревшими от никотина пальцами каждый день брал его на бейсбол; тощий, желтый, больной малярией плантатор из Миссисипи лазал с ним на горы и бродил по душистым долинам; вечерами он слышал на темных верандах звонкий грудной смех женщин, нежный и жестокий, слышал сочные рокочущие голоса мужчин; видел уступчивый потайной южный разврат — темное уединение их полуночных тел, их утреннюю ясноглазую невинность. Желание рвало его сердце окровавленным клювом, как ревнивая добродетель: он высоконравственно негодовал на то, в чем ему было отказано.
По утрам он оставался в доме Ганта с Хелен и играл в мяч с Бастером Айзексом, двоюродным братом Макса, веселым толстым малышом, который жил рядом. Позже, привлеченный сладким благоуханием варящейся помадки, он возвращался в дом, и Хелен посылала его в маленькую еврейскую лавочку на той же улице за кислыми приправами, которые очень любила. И усевшись за стол в разгаре утра, они ели кислые маринады, толстые ломти спелых помидоров, густо намазанные майонезом, пили янтарный процеженный кофе, ели винные ягоды — «ньютоны» и «дамские пальчики», горячую духовитую помадку, утыканную грецкими орехами и сдобренную ароматным маслом, бутерброды с нежной грудинкой и огурцами, запивая все это леденящими икотными лимонадами.
Вера Юджина в ее гантовское богатство была безгранична: все эти восхитительные деликатесы брались из неистощимых запасов. Куры оживленно и весело кудахтали по всему утреннему кварталу; силачи-негры вносили в дом капающие глыбы льда, вытаскивая их железными клещами из дымящихся фургонов; он стоял под их визгливыми пилами и ловил в ладони ледяную кашицу; он впивал смешанный запах их могучих тел и налипшего на лед мусора вместе с резким масляным запахом линолеума в столовой; а днем в гостиной с ореховой, набитой конским волосом мебелью, где мягко и приятно пахло роялем и старым полированным деревом, она играла ему и заставляла его петь «Вильгельма Телля», «Когда твой голос милый», «Песню без слов», «Celesta Aida»*, «Утраченный аккорд», и ее длинная шея вытягивалась, напрягая сухожилия, и звучный голос рвался наружу.
Она ненасытно радовалась ему, обкармливала его кислым и сладким, в перерывах между непрестанными хлопотами валила его на диван Ганта и крепко держала, шлепая большой ладонью по дергающимся щекам. Иногда, доведенная до исступления каким-нибудь капризом своих нервов, она злобно набрасывалась на него, полная ненависти к его смуглому задумчивому лицу, к его пухлой выпяченной губе, к его полному растворению в мечтах. Как Люк и Гант, она постоянно искала занятия для своего беспокойного деятельного жизнелюбия; она приходила в ярость, если замечала, что другие погружаются в себя, и по временам она ненавидела его, когда ее собственные струны перенапрягались и она видела его темное лицо, поглощенное книгой или каким-то видением. Она вырывала книгу из его рук, шлепала его и язвила жестоко и беспощадно. Она выпячивала губу, нелепо вертела головой, сгибая шею, изображала на лице тупую идиотичность и изливала на него страшный поток ядовитых слов.
— Ах ты, уродец, шляешься тут, как помешанный. Ты вылитый маленький Пентленд—смешной уродец, вот ты кто. Над тобой все смеются. Ты что, этого не знаешь? Не знаешь? Мы тебя будем теперь одевать девочкой. И ходи так. В тебе нет ни капли гантовской крови — папа прямо так и сказал. Ты вылитый Грили; ты помешанный. Пентлендовское полоумие так из тебя и лезет.
Иногда ее жаркая первозданная ярость была так велика, что она валила его на пол и топтала ногами.
Мучительной была не столько физическая боль, сколько ядовитая ненависть, лившаяся с ее языка, дьявольское уменье находить самые ранящие слова. Он терял рассудок от ужаса, когда из Эльфландии его внезапно швыряли в ад, он вопил как безумный, когда его щедрый ангел мгновенно превращался в змееволосую фурию, он утрачивал всю свою высокую веру в любовь и доброту. Он кидался на стену, как взбесившийся козленок, бился об нее головой, неистово визжа, отчаянно желая, чтобы его стиснутое, переполненное сердце разорвалось, чтобы что-то в нем сломалось, чтобы ценой крови он мог вырваться из душной тюрьмы своей жизни.
Это удовлетворяло ее, именно этого в глубине души она и хотела — в своем свирепом нападении на него она обретала очищающее успокоение и теперь могла до конца опустошить себя в бешеном порыве нежности. Она схватывала его, как он ни кричал и ни вырывался, прижимала к груди длинными руками, покрывала поцелуями его багровые щеки, безумно вытаращенные глаза, успокаивала самой искренней лестью, обращаясь к нему в третьем лице: